Труд и творчество
Разум определен как универсальная связь вещей. Включая живое и неживое, а также разумные существа. Такое отношение мира к себе (уровень его рефлексии), когда любые части и любые стороны целого оказываются так или иначе взаимосвязанными. Это никоим образом не отменяет различий — но лишь показывает, что в каких-то случаях эти различия несущественны, и на первый план выступает единство. Следующий этап — снятие различий как таковых; при этом мир в целом оказывается цельным, не разделенным, — а единичное, особенное и всеобщее просто совпадают. На следующем витке рефлексии мир снова распадается на бесчисленность вещей и сторон — которые соединяются случайным (неживое), необходимым (жизнь) и, наконец, универсальным образом (разум). Разум в одном из таких обращений иерархии мира вовсе не обязательно будет похож на другие формы разума — хотя в силу нашей универсальности мы все-таки сможем догадываться о имеющихся возможностях, — а в силу единства мира, один разум неизбежно соединен с другим.
Такова картина в целом. Однако (в пределах одного обращения иерархии) можно различать не только единичные вещи — но и единичные связи между ними. В отношении к субъекту (разумному существу), установление таких связей есть его способ существования — деятельность. Любые относящиеся к субъекту категории представляют, следовательно, лишь формы его деятельности. То, что мы связываем в деятельности — собирательно называется ее объектом; полученная связь — продукт деятельности. В силу универсальности разума, всякий продукт деятельности становится объектом некоторой деятельности; таким образом, разум преобразует мир, наделяет его новыми качествами и производит нечто, невозможное само по себе, без участия разума. Обратно, каждый объект включается в деятельность как продукт другой деятельности: не бывает объектов самих по себе — они определены свои отношением к деятельности, к ее субъекту и продукту. В итоге, одна деятельность перетекает в другую, и вся совокупность (иерархия) деятельностей воспроизводится снова и снова, в новых условиях и в новых формах, что, в частности, обеспечивает единство субъекта как выражение единства мира, универсальной соединенности, которая мы обозначаем категорией дух. Мир как всеобщий объект — это природа; но как продукт деятельности — это видоизмененная, пропитанная субъектом природа, именуемая культурой. Мир только один; поэтому природа, дух и культура — стороны одного и того же, и одно превращается в другое в разных обращениях иерархии.
Для краткости, фундаментальную схему строения деятельности
объект → субъект → продукт,
будем в дальнейшем записывать как
O → S → P
Разумеется, такое переобозначение — не для того, чтобы формально играть буковками, выдавая каждую комбинацию за следствие "строгой" теории. Знаки бывают разными; буквы и термины — небольшая часть возможностей. Но сами по себе они ничего не значат — они ссылаются на некоторую деятельность, в контексте которой какие-то комбинации оказываются осмысленными. Когда математики утверждают, что за их символическими исчислениями не стоит ничего конкретного — они заблуждаются, или лукавят: предмет сколь угодно абстрактной теории изначально наделен такими свойствами, чтобы обеспечить практически приемлемые выводы. Протащить такие, неявные логические круги в науку — дело нехитрое; гораздо труднее не увлечься и не придать формальным выводам чрезмерной категоричности, забывая о весьма грубых приближениях, лежащих в основе теоретических абстракций.
Тем не менее, символическая запись схем оказывается полезной, когда с ее помощью удается усмотреть общее в очень разных на вид практических ситуациях — на то мы и разумные существа, чтобы универсально связывать! Например, в бытовом контексте звено O → S может быть сопоставлено с потреблением; в теории познания мы видим здесь отражение мира человеком; в искусстве — речь о возникновении художественной задачи. Поскольку мы помним, что в деятельности всегда присутствует и звено S → P, мы легко избежим однобокой трактовки быта как пошлого потребительства, заметим преобразующую силу знания, осознаем важность индивидуальности художника.
Одно из важнейших следствий — разрушение догм. Тысячи авторов предлагают якобы окончательные решения человеческих проблем, исходящие из вечной и неизменной "природы человека". Прочесть трактат, прослушать лекционный курс, пройти интенсивный тренинг, — и ты уже хозяин своей судьбы, на пути к головокружительности успеха. Можно, конечно, привлечь здоровый скепсис и сообразить, что ни одна наука не в состоянии вместить бесконечный мир целиком, и потому готовые ответы найдутся не всегда; однако мы можем пойти дальше — и спросить: как можно говорить о природе того, кто как раз и занято преобразованием природы? — зачем нам замыкаться в собственной судьбе? — и тем более лезть в хозяева? — наконец, куда предполагается успевать и почему нельзя без спешки? Давайте лучше считать, что любой подход хорош только в границах своей уместности — и не будем чрезмерно обобщать; тогда можно смело идти на самых рискованные обобщения; почему бы не сжечь за собой мосты, если планета круглая, и на покинутый берег можно попасть, не возвращаясь назад?
Итак, человек берет объект — и делает из него продукт. Обычная организация производственного процесса. Но в продукте — не просто переработанное сырье. И не только форма как способ использования исходных материалов в процессе изготовления. Для человека прежде всего важно — зачем это. Неживые системы преобразуют вход в выход, следуя случайностям внутреннего состояния. Организмы — делают то же самое необходимым образом, и характер метаболизма определяет живое существо, которое и есть овеществленный метаболизм, тело и душа. Живое и неживое — так устроены, это их способ существования. Разумное существо исходит не из своей "природы" — оно ставит перед собой сознательную (хотя и не всегда осознаваемую) цель, и активно меняет себя, чтобы чего-то достичь; в частности, это приводит иногда к изменению структуры целей, переходу к другой деятельности. Такую подвижность в частных случаях можно промоделировать физическими процессами или живыми сообществами; суть разума — универсальное следование этому принципу, в самых разных отношениях. Сумеем мы выстроить движение вещей и организмов таким образом — мы создали искусственный разум! Это мало чем отличается от выращивания разума в себе, проекции личности на доступные на каждый момент тела.
Созданный нами продукт — не только (и не столько) кусок материи, организованный по природным законам, но и воплощенное в нем намерение — его предназначение. Иногда нам бывает безразлична материя продукта — лишь бы он представлял нашу субъективность; так устроены продукты духовного производства (о котором речь впереди). Однако в любом случае продукт — единство объекта и субъекта, вещи и ее назначения (или истории). Одно без другого не ходит: разрушая вещь, мы ограничиваем возможности ее использования; бесхозный продукт, которым некому воспользоваться, — просто вещь, часть природы, и все человеческое из нее быстро выветривается. Контрпримеры — лишь подтверждение общего принципы. Например, досужие мечтания, вроде бы, не требуют никаких материализаций — и общественно заметного продукта не создают, хотя заниматься этим делом можно долго и с упоением. Но задумаемся: а почему, вдруг, у нас появляется такая предрасположенность? — и почему мечтается нам не как попало, а вполне определенным способом? Единственное разумное объяснение — отражение культуры во внутреннем мире человека; и следовательно, непонятная деятельность есть выражение культурной необходимости, одна из возможных материализаций (для чего общество предоставляет нам подходящие инструменты — вроде правильно настроенного тела). Логика ведет дальше: такое (культурное) движение не может пройти бесследно: оно неизбежно отразится на деятельности других людей. Хотя бы потому, что наши настроения меняют наше поведение, и это вполне ощутимо — и наводит на что-то всех, с кем мы имеем дело. Помимо такой, непосредственной материализации — существуют и косвенные связи, без которых культура никогда не обходится, и которые объединяют людей крепче стальных цепей.
Возражение наоборот: археологи и палеоэтнографы выискивают следы обработки и культурного использования на древних обломках, которые по назначению заведомо никто не использует, и отличить которые от природных образований — это надо очень постараться! Выходит, даже утративший связь со своей культурой продукт остается ее носителем — и не может быть лишь частью природы. Примерно к этому же сводится поиск внеземного разума: обнаружить что-нибудь настолько необычное, что естественными причинами такое никак не объяснить. Опять же, по здравому размышлению заключаем, что понять вещь как артефакт (или даже просто воспринять ее как вещь) человек может лишь с позиций своей культуры — и лишь в тех аспектах, которые нам общи с теми, кого мы ищем. Мы умеем заметить только такие способы обработки, которые известны у нас; догадываться о культурном использовании приходится лишь в рамках нашего опыта. Вполне может оказаться, что вроде бы уверенное различение структур — лишь иллюзия, результат технологической или духовной ограниченности. Вспомним о марсианских каналах — или попытках "расшифровать" радиосигналы из космоса. Вероятно, к той же категории относятся сенсационные теории о создателях мегалитов, пирамид, или рисунков в пустыне. Не говоря уже об уфологии в жанре детектива, расследующей военно-политические заговоры. Не исключено также, что на подлинные следы необычных культур мы пока не обращаем внимания — не умеем вовлечь их в нашу деятельность и сделать частью нашей (культурно обусловленной) природы.
Поскольку продукт есть единство объекта и субъекта, в нашей деятельности воспроизводятся обе стороны — однако отношение к ним бывает разным. Когда на вершине иерархии производство вещей — это материальное производство; если в центре внимания производство субъекта деятельности — мы занимаемся духовным производством. Каждая деятельность — переплетение материального и духовного производства, и соотношение того и другого меняется как во времени, так и в (культурном) пространстве. Этот момент очень важен: даже в самых утилитарных намерениях, поскольку они культурны, высветится человеческая духовность; и наоборот, не бывает "сублимированной" духовности, вне зависимости от движения вещей. Следовательно, говорить о воспроизводстве разума возможно и на уровне материального производства, и строение экономики оказывается выражением строения субъекта. И обратно: духовное производство связано с производством вещей (или особых отношений между вещами), которыми духовность представлена — и без которых не было бы вообще никакого продукта.
Всякая конкретная культура — это мир как продукт деятельности; следовательно, в ней различаются материальная и духовная культура как взаимно дополнительные и взаимно отраженные стороны. Однако вклад в материальную культуру дает не только материальное, но и духовное производство (поскольку оно воплощает дух в вещах и отношениях вещей, включая также созданные нами абстракции), — а духовная культура опирается не только личное общение, но и на взаимодействие людей в процессе материального производства. Оторвать материальное производство от духовного возможно лишь в абстракции — но именно этим занимается классовое общество, абстрактно противопоставляющее одних людей другим — и одни вещи другим.
Универсальная схема деятельности O → S → P будет представлять материальное производство, если формально положить P = O :
... → O → S → O → S → O → ...
Таким образом, цикл воспроизводства выглядит простым чередованием потребления (O → S) и производства (S → O). Разумеется, учитывая иерархичность как объекта так и субъекта, придется говорить о циклах воспроизводства разного уровня — которые далеко не всегда между собой согласованы, и требуется особая деятельность по их объединению в экономическое целое. Легко видеть, что воспроизводство в целом даже в рамках материального производства представимо двояким образом:
... → O → S → O → ...
... → S → O → S → ...
То есть, в человеческой деятельности воспроизводятся прежде всего объективные условия производства — производительные силы; с другой стороны, поскольку производство всегда носит общественный характер, воспроизводятся и производственные отношения — экономические связи между людьми, один из уровней общения. Производительные силы и производственные отношения определяют характерный для конкретной культуры способ производства, единство материального и духовного в экономике.
Снятие опосредование (свертывание иерархии) приводит к наиболее абстрактной картине материального воспроизводства, когда вещи живут сами по себе и порождают другие вещи, а человек воспроизводит сам себя и непосредственно связан с другими:
... → O ⇒ O → ...
... → S ⇒ S → ...
В классовой экономике эти две стороны воспроизводства материальной культуры (намеренно) оторваны друг от друга и противопоставлены одна другой. Догадаться об их единстве — в условиях всеобщего разделения труда и всеобщего отчуждения очень непросто. А взятые по отдельности они (в силу своей предельной абстрактности) практически неразличимы — и потому вещи в буржуазной философии считают лишь инобытием идей, а люди воспринимаются как чисто природные существа. Для рынка, это чистые количества, разные активы, обличия капитала. Так, в классово извращенной форме, синкретически, осознается единство мира: разум одухотворяет природу — делает ее своей плотью, становится природой, чтобы на этой основе развернуть новые уровни духовности; но и природа всегда предполагает возможность разума, универсальной связи.
Другая сторона "параллельности" циклов воспроизводства объекта и субъекта в классовой экономике — разделение сфер деятельности на первичные (экономический базис) и вторичные (надстройка); к базису относят производительные силы и производственные отношения, способ производства, — тогда как надстройка, вроде бы, лишь обслуживает базисные процессы, организует и упорядочивает их, создает культурную среду, инфраструктуру. Апологетам капитализма важно подчеркнуть независимость надстройки от экономических отношений, ее якобы внеклассовую сущность; напротив, идеологи трудовых масс упирают на вторичность надстройки, ее зависимость от экономики. И те, и другие остаются в рамках классового сознания, неспособного вырваться за пределы парадигмы господства и подчинения. Но чем, скажем, работа парламента или суда отличается от работы инженера-механика или метролога? Чем религия отличается от иерархии производственных ролей? Буквально все надстроечные отношения — по поводу экономики; они, по сути, и есть экономика. А некоторые "надстроечные" структуры изначально созданы как экономические: например, семья производит органические тела и обслуживает движение товаров — почему ее следует записывать во "вторичные"?
В бесклассовом обществе никакие различения не перерастают в размежевание — они временны и условны. Только в рамках конкретной деятельности, на одном из этапов, можно упорядочить ее компоненты во времени или по логике дела. Воспроизводство объекта и субъекта — просто разные стороны одного и того же, и с развитием способа производства одно запросто перетекает в другое. Нет здесь никакой формальной первичности или вторичности. Духовное не до и не после материального, не выше и не ниже, — они вместе. Почему? Да потому что нет разделения труда — никаких ограничений на участие всех в любой деятельности. Люди не дополняют друг друга в структуре бесклассовой экономики — они трудятся вместе. Бесклассовая совместность (общественность) — против классового отчуждения и конкуренции. Люди просто трудятся — как считают нужным, — и не нужны им никакие базисы и надстройки.
В рамках материального производства, человек воспроизводится не как субъект в полном смысле, не универсально, а лишь как особый объект, опосредующий превращение одних объектов в другие. Такого, одностороннего субъекта Маркс называет "частичным человеком", индивидом (то есть, по сути, природным существом). Потенциально этот продукт годен стать воплощением духа — но господа очень хотели бы лишить рабов (работников) малейших проблесков духовности. Поэтому отношения между людьми старательно удерживают в экономических границах — воздвигая формальные препятствия на пути духовного, личностного общения (любви). Собственно, в этом и состоит главная функция пресловутой "надстройки": заменить духовность бизнесом. При капитализме, человек — участник материального производства — воспроизводится прежде всего как экономический субъект, двояким образом участвующий в движении рынка: рабочая сила (источник стоимости) — и потребитель (поглощение, капитализация стоимости). Вспоминая о различии меновой и потребительной стоимости как количественной и качественной сторон продукта, приходим к обычной "диалектической" триаде:
количество → качество → мера
где человек (экономический субъект) фактически (а не только в буржуазно-романтических лозунгах) оказывается мерилом всех вещей. В строении субъекта проекции экономических ролей (производитель и потребитель) выступают как его способности и потребности; целостный (экономический) субъект — единство того и другого: это и способность потреблять, и потребность производить. Но в классовом обществе потребление и производство столь же противоположны, противопоставлены друг другу, как и все остальное; разные общественные слои имеют разную структуру потребления и производства. Соответственно, и культура в целом распадается на культуру производства и культуру потребления — и приобщают к ним на классовой основе. В частности, экономический базис увязывают преимущественно с производством — а надстройке отдают все, что опосредует потребление. Это прямое выражение классового разделения труда, при котором продукт отчуждается от производителя и распределяется согласно нормам господствующего класса. Поскольку же и способ производства является общественным продуктом, его потребление (то есть, участие в производстве) также сопряжено с классовыми ограничениями; прежде всего мы замечаем различие в доступности материального и духовного производства. Отсюда ограниченность духовной сферы классового человека — несвобода и неразумность.
В разумно устроенном обществе каждый волен заниматься чем ему интереснее — и тем самым сознательно выстраивать себя как субъекта, включая и экономические роли, и строение личности. При этом любое производство есть непосредственно и потребление, и наоборот, всякое потребление производительно — и различие между материальным и духовным производством снимается. Точно так же, нет принципиальной разницы между производительными силами и производственными отношениями: люди сознательно строят и то, и другое, — так что отношения между ними воплощаются в вещах, а вещи всегда выражают человеческие отношения (не только экономические). Действительно, производительные силы (как возможность произвести определенный набор продуктов) — это, с одной стороны, средства производства, а с другой — трудовые ресурсы (которые при капитализме сводятся к рыночному эквиваленту, рабочей силе). С точки зрения материального производства, и то, и другое — объекты; но общественный характер производства возможен лишь там, где люди настроены не на работу вообще, а на обмен деятельностями особым, культурно определенным способом (соответственно сложившемуся способу производства), — следовательно, трудовые ресурсы как элемент производительных сил есть вещное представление экономическое выражение общекультурных связей, включая и производственные отношения. Точно так же, средства производства (его объект, вещные предпосылки) включают не только предмет труда — но и средства труда (от простейших орудий до производственных комплексов), в которых отражены соответствующие данному способу производства производственные отношения и способы социализации, позволяющие людям трудиться именно так.
Еще раз подчеркнем, что и материальное, и духовное производство относятся, главным образом, к воспроизводству материальной основы разума, его плоти. Поэтому производственные отношения в этих двух "отраслях" по форме одинаковы. В любом случае, в отличие от уровня духовности, речь идет о связи субъектов через объект — об их внешнем отношении друг к другу, не предполагающем слияния, внутреннего единства. Не вдаваясь в детали, приведем несколько характерных типов такой связи людей в процессе производства.
Простейшая схема — использование продуктов деятельности одного субъекта в деятельности другого:
S1 → P1 = O2 → S2
Здесь уже заложены очень разные интерпретации. Классовому человеку прежде всего приходит в голову различие производства и потребления, обмен продуктами. Однако та же схема описывает и производственные коммуникации — когда люди обмениваются на продуктами как таковыми, а знаками, сигналами. Экономически, обмен приводит к появлению денег; а в коммуникативном плане — возникновение языка. В общем случае, схема описывает общественный характер производства, возможность передать деятельность от одного субъекта другому; в субъектном отношении это означает осознание себя как представителя разумного человечества — но пока лишь в одном качестве, в производственной сфере.
От последовательного представления переходим к параллельному. Схема совместного производства
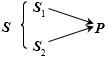
также допускает различные трактовки. В совместном труде между субъектами возникает иерархия связей — от сугубо материальных (распределение труда, различие производственных ролей) до косвенных, чисто идеальных ("независимое" производство). Возникающий в результате "синтетический" субъект в классовом обществе может быть формальным или неформальным коллективом, члены которого равны лишь в плане своей принадлежности этой общности — а внутри коллектива не всегда взаимозаменяемы (и тогда коллектив подобен живому организму — делает людей своими органами). Собственно коллективный субъект (новый уровень иерархии) возникает лишь там, где между совместный труд порождает духовную связь — которая не зависит от порождающей деятельности и сохраняется в любом производстве. Однако поскольку в экономических отношениях субъект все равно не универсален, дан лишь в отношении к производству, — экономически, любой коллектив выглядит как коллективный субъект; оставаясь внутри природы, отличить универсальную связь от природной невозможно.
Совместное "потребление" (одинаковое отношение к объекту)
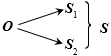
тоже приводит к синтетическим образованиям, иногда переходящим на уровень коллективного субъекта. Однако и здесь связь может оказаться лишь формальной (когда люди в классовом обществе поставлены в одинаковые условия производства), либо случайной (и тогда это вообще не имеет отношения к субъективности). Синтез возможет лишь там, где культура предполагает совместное использование (восприятие), когда объект именно на это и рассчитан, и для этого произведен. Рыночная экономика в качестве такого товара использует деньги; в духовном производстве существует круг общих идей; однако практически любое культурное образование может играть аналогичную роль — и общность возникает в процессе социализации (обучение и воспитание).
Расширенный вариант той же схемы может описывать нечто вроде производственной конкуренции:
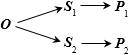
Один и тот же объект пытаются использовать в разных деятельностях, преобразовывать мир в разных направлениях. В классовом обществе это конфликт, попытки завладеть объектом, присвоить его. В разумно устроенном мире речь лишь о согласовании интересов и намерений, когда возможные варианты совместно прорабатываются — и принятое решение может отличаться от всех исходных сразу (например, переход к другой схеме деятельности, с иными объектами и продуктами). Если чего-то разумным людям не хватает — они не грызутся друг с другом, а делают так, чтобы всего хватало; если невозможно одно — будет возможно другое.
Аналогично, в совместном производстве (кооперации) люди могут использовать разные технологии:
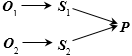
Это предполагает развертывание деятельности другого уровня — в результате которой мы и осознаем, что делаем одно и то же. В условиях всеобщего разделения труда разные деятельности не дополняют друг друга, а противопоставлены одна другой; при этом общность продукта не устанавливается разумом (в единстве деятельности и общения), а предписывается волей господствующего класса как единый стандарт, норма, предписание, традиция. Тогда различия в понимании условий, необходимых для производства продукта, ведут к хаосу, конфликтам, противоречиям, конкурентной борьбе.
Возникновение нового субъекта в совместной деятельности связано с осознанием этой совместности, с общностью способов производства и потребления (которые в бесклассовом обществе не различаются):
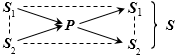
Поскольку в продукте труда P представлены как S1, так и S2, и это оба субъекта замечают, — каждый их субъектов представлен в другом как отражение совместного присутствия в продукте. Тем самым часть S1 переходит в S2, и наоборот: это взаимное проникновение, слияние субъектов, характерное для духовной связи. Развитие иерархии духа возможно только путем установления духовных связей — и потому производственные взаимоотношения являются лишь предпосылкой, необходимым условием — но не причиной.
В силу иерархичности человеческой деятельности (в том числе производственной), всякий продукт также представляется иерархией продуктов. Субъекты разных деятельностей по-разному относятся к этим "частичным" продуктам. Для восстановления экономического единства требуется особая деятельность. Например такая:
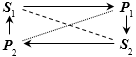
Разумеется, обмен продуктами в классовой экономике — лишь частный случай; однако уже знакомые выводы теории обращения капитала подсказывают общие идеи. Мы знаем, что в процессе обмена между продуктами возникает идеальная связь (своего рода эквивалентность); эта связь представляет общественный характер производства и потребления — и порождает особый характер взаимодействия участников производства и обмена, духовную общность. Так возникает коллективный субъект (вплоть до единства класса, нации или человечества в целом) — а плотью духа становится объект более высокого уровня, единство объектов P1 и P2 (вплоть до материальной культуры в целом).
В свете всего этого различия между материальным и духовным производством становятся еще более относительными — и только в рамках определенной (классовой) культуры, на одном из ее уровней, возможно формальное разграничение. Музыкант или филолог не потому заняты духовным производством, что такова природа их занятий; напротив, их занятия считаются духовными лишь потому, что их положено таковыми считать; по сути, одни общественные группы так утверждают свое господство над другими. Коммерсант ворочает миллионами — рабочий не знает, как протянуть на жалкие гроши; первое в некотором (классовом) смысле — более творческое занятие, нежели вкалывать по графику на чужой кошелек. Но по факту и тот, и другой воспроизводят себя как экономического субъекта — и потому оба одинаково духовны, при всем различии форм.
Здесь мы подходим к главному: важно не отличие одного человека от другого, а их общее отличие от всего того, что разумом (даже в зародыше) не обладает. Объектный характер воспроизводства — и вытекающая из него объективированность субъекта — маскируют личностное отношение человека к деятельности, ее дух. Без такого отношения субъект вообще невозможен. Одни и те же руки (или голова) делают одну и ту же операцию либо с душой — либо просто потому, что они на это (физически и физиологически) способны. В первом случае — речь о сознательной деятельности как таковой; второй вариант — чисто природное движение, никакого отношения к разуму не имеющее.
Скрытая за внешне обезличенным движением объекта и субъекта духовность — вот то, ради чего все и затеяно. Без этого — невозможно единство мира. Человек (как разумное существо) производит не объект, а продукт — и вкладывает в него не только свои усилия, но свой дух. Себя самого человек воспроизводит не только вещным образом, как экономическую единицу, — но и как личность, как полномочного представителя разума. Не частица целого — а все целиком.
Говоря о воспроизводстве разума, мы, конечно же, обязаны помнить о культурной обусловленности производства и потребления (там, где они различаются). Но прежде всего нас интересует дух — не просто принадлежность культуре, но и ее изменение, активное участие в культурном строительстве. Духовность — это намерение изменить мир, сделать его таким, каким он не смог бы стать без нас; в отношении к деятельности это называется творчеством. Материальное или духовное производство как творчество — мы называем трудом. Без духа — возможен высокоразвитый интеллект; но если место труда занимает бессмысленное действование, исполнение — это всего лишь работа.
Классовое общество вынуждает большинство людей работать на хозяина; в итоге и хозяева не способны творить. Господа боятся духовности — но они вынуждены нанимать тех, в ком еще есть ее искра, кто может предотвратить культурный застой и следующее за ним вырождение (а значит, и ограничение власти власть предержащих). Однако попытки ограничить духовность сферой формально духовного производства тут же превращают его в тупую работу, как у остальных рабов. Творчество свободно — оно не может уместиться ни в какой специализации. Классовые "теоретики" и пропагандисты стремятся обосновать вечность существующего строя — и допускают творчество лишь в пределах допустимого, в установленных формах и направлениях. Человеческая деятельность при этом представляется хаосом готовых возможностей, которых добропорядочному обывателю достаточно; такой эмпиризм — отрицание творчества, а значит, и разума. Другая сторона того же самого — сведение человеческой деятельности к якобы заранее данной природе, которую мы можем лишь познавать, как-то использовать — но не изменять. Будем мы называть эту безликость материей или богом — никакой разницы.
Воспроизводство мира как материальное и духовное производство лишь констатирует различие объекта и субъекта — но не объясняет их становления и развития. Чтобы перейти к воспроизводству разума, надо привнести в эту самодостаточность несводимое к ней возмущение, качественно иное. Отблеск духовности, творчество. Тогда производство уже не само по себе — а как труд, воплощение духа. На протяжении всей своей истории человечество занято поиском подходящих для этого экономических форм. В языках людей слова "работа" и "труд" часто употребляются как синонимы — но это не значит, что люди не отличают творческого труда от тупой работы! Скорее, речь лишь о синкретической стадии, когда творить приходится в рамках навязанных классовой экономикой условностей — и в каждой работе усматривать толику разумности, возможность труда. На следующем уровне — мы изменим экономический строй так, чтобы ничто не мешало перестраивать на разумных началах материальную и духовную культуру, вплоть до полного стирания их противоположности; но еще раньше мы избавимся от противопоставления человека человеку, одной ограниченности — другой. Только совместно люди смогут универсальным образом связать воедино весь мир — преодолеть неразумную разобщенность живой и неживой природы.
|