И дальше про то, как создатель любит свое создание, особенно если муки рождения совершенно всерьез. А дети, дескать, поначалу не понимают, как они мамаше обязаны, — и только много лет спустя до некоторых, наконец, доходит...
Мысль о том, что отношения между родителями и детьми могут складываться по-разному, пошла в тираж из практики психоанализа — но до сих пор ее стараются не пускать дальше литературы для узкого круга. Хотя по жизни каждый, вероятно, сталкивался с (очень мягко выражаясь) недружелюбным поведением родителей в отношении своих (а тем более чужих) детей. Но клиника говорит сама за себя:
|
Ее ненависть выразилась убийственным яростным взглядом, который ребенок понял так: "Хватит требовать от меня" Если ты не замолчишь, я уйду или уничтожу тебя!" Подобная экспрессия родительской ненависти встречается нередко. Многие матери кричат от злости и досады. Некоторые даже говорили мне, что много раз чувствовали, что могли бы убить своих детей.
|
|
Это А. Лоуэн, Предательство тела (1999). Про фрейдовский миф об отцеубийстве — все наслышаны. Однако и без клинических обострений чудес хватает. Есть факт: матери отказываются от детей — или продают их; матери убивают младенцев или выбрасывают в мусорные баки; матери лупят детей чем попало и заставляют отцов всыпать еще больнее. Не говоря уже о жестокостях воспитания, унизительных наказаниях — и обычном семейном мате.
Миф о материнской любви — элемент системы промывания мозгов, попытка заставить глупые создания размножаться, плодить рабочую силу. Как водится, многие верят — и даже варварское обращение с детьми считают выражением искреннего чувства, и требуют в ответ, как минимум, признательности. Пока люди не научатся видеть в людях людей, независимо от возраста, — пока они не станут разумно общаться друг с другом, не взирая на должности и опыт, — любви почти нет места между родителями и детьми; возможно там ей вообще не место: дети не должны знать родителей, и делать детей будут не постельные существа.
* * *
В. Д. Губин, Любовь, творчество и мысль сердца
|
Человек делает добро, поступает по совести не потому, что преследует такую цель, а потому, что он добр, совестлив и не может жить иначе. Человек любит потому, что не может не любить...
|
|
Казалось бы, похоже на правду... Любовь несовместима с корыстью, даже бессознательной или объективно необходимой. Но здесь роза с отравленными шипами: доброта, совестливость и потребность любить поданы как врожденные качества, встроенные в индивидуальность. Философский идеализм.
Суть в том, что никто не может родиться "добродетельным" — надо воспитывать себя в себе; социальный механизм, посредством которого мы можем это делать — любовь. В ней наше освобождение от любой корысти, от подчинения внешним интересам; мы поступаем так, как нам велит любовь — так, как мы любим! Тогда не нужна совесть — и теряет смысл противоположность добра и зла.
* * *
Попытки запереть человека в органическом теле — неизменно натыкаются на очевидное несоответствие реальности: мы чувствуем и доподлинно знаем, что наш дух — нечто существенное иное, нежели души животных, и никаким природным законам (включая правовые установления и гнет морали) подчиняться не обязан. Поскольку же об общественной сущности человека буржуазные теоретики ничего не знают (или предпочитают подло умолчать), им остается либо объявить сознание иллюзией, своего рода органическим расстройством, — либо встроить в тело некоего гомункулуса неизвестного происхождения, высшую инстанцию, подчиненную чему-то совсем мистическому, не от мира сего. Фрейд пытался следовать идее полной сводимости разума к психике, а психики к физиологии, — но получалось криво, и он честно признавал неубедительность анализа, а в итоге был вынужден все же допускать какие-то неприродные инстанции (выражая надежду, что когда-нибудь их природность таки будет обнаружена). Напротив, Юнг сразу же отказался от человеческой разумности — и подчинил все в людях воле божества. Этот мистицизм мы, в частности, обнаруживаем и в юнгианской трактовке любви: R. A. Johnson, We (1983).
|
Carl Jung opens up an approach that takes us back to the roots of religion—the experience of psyche as soul, as a reality. He discovered that each person's psychological structure includes an independent religious function.
|
|
Нас сразу же загоняют в общую клетку: "религиозная функция" психики объявлена от нас никоим образом не зависящей — и обязательной для каждого. Это не просто мнение выжившего из ума психоаналитика — это подано как "открытие"! Хотя ни единого внятного аргумента в пользу мифической теории у Юнга вы не найдете. В русском переводе 2005 года акценты смещены: "возвращает к религиозным корням" — и классовая сущность не просто воняет в нос, но и бравирует махровой поповщиной, уродливой бездуховностью; характерный штрих, типично российское юродство. Оригинал еще можно понять в том смысле, что философский идеализм (признание существование душ как самостоятельных сущностей) — это корни религии, а не наши религиозные корни. Но для книги в целом такая корректность вовсе не характерна, и воспевание мракобесия раскручено по полной.
|
Their "love" is not ordinary human love that comes by knowing each other as individuals.
... romantic love is connected with spiritual aspiration—even with our religious instinct...
What we seek constantly in romantic love is not human love or human relationship alone; we also seek a religious experience, a vision of wholeness.
... our souls and spirits are psychological realities, and they live on in our psyches without our knowledge. And it is there, in the unconscious, that God lives, whoever God may be for us as individuals.
... the religious urge, the aspiration, means a seeking after the totality of one's life, the totality of self, that which lives outside the ego's world in the unconscious in the unseen vastness of psyche and symbol.
|
|
Здесь, вроде бы, тоже сведение духа к "психологическим реальностям", которые (как и у Фрейда) населяют, якобы, наше "бессознательное". Однако Фрейд выводил "эго" и "супер-эго" из животности "оно" (составляющего основной массив бессознательного) — юнгианцы идут "сверху вниз", объявляя бессознательное лишь проекцией божества. Если для Фрейда психика человека есть лишь продолжение животных инстинктов — юнгианство (под соусом занятных сказочек) подсовывает широкой публике мистическое понимание как психики, так и инстинкта, когда всякая одушевленность — от бога, изначально встраивающего в души поклонение божеству ("религиозный инстинкт"). Реакционность подобных "теорий" бросается в глаза: это проповедь вечной покорности, рабского повиновения, беспрекословного исполнения велений власть предержащих (которые испокон веков считали божественными только себя). Этим же инстанциям лакействующие "аналитики" пытаются подчинить любовь: меж собой быдло может любиться как угодно; но если барин приказал спарить такого-то самца с такой-то самкой — это полагается считать их "духовным влечением" и "религиозным опытом". Селекционная работа, дело житейское... Животные спариваются уже не природным образом, а как носители (святого) духа, ведомые (чуждой и неподвластной им) судьбой.
Легко видеть, что в этих человеконенавистнических идеях классово извращенным образом просвечивает совершенно материалистическая мысль: разум окультуривает природу, меняет ее законы, приучает ее двигаться существенно неприродным (духовным) образом. Но если марксизм усматривает здесь возможность (и необходимость) устранения эксплуатации человека человеком — апологеты поповщины требуют сохранения классовых делений на вечные времена, и единственное "усовершенствование" допустимо лишь в плане формального паритета "маскулинности" и "фемининности", их гармоничного сочетания в каждом индивидууме и в обществе в целом. Именно это имеет в виду юнгианское "видение целости": переряженная доктрина "общества социальной гармонии" — когда рабы совершенно добровольно и с энтузиазмом служат интересам господ: Jedem das Seine!
Джонсон неоднократно подчеркивает, что его трактат выражает не только его личное мнение — но и европейскость вообще, своего рода евростандарт — следовать которому хорошо вооруженные американцы принудят весь мир. Карл Маркс и Фридрих Энгельс (не говоря уже о Ленине) — очевидно, не европейцы; точно так же, как и поборники "спокойной, преданной, неромантической любви, которую мы часто видим у дружных супружеских пар или любовников". Ну что ж, любовь пытались вытравить их людей тысячи лет — но она жива; переживет и юнгианские выверты. Будет и на нашей улице праздник!
* * *
Ларошфуко, 136:
|
Иные люди потому и влюбляются, что они наслышаны о любви.
|
|
Когда для любви нет достойных общественных условий, слухи вполне заменяют отсутствие подобающего воспитания и высокой культуры.
* * *
Энгельс, Анти-Дюринг [20, 305]:
|
... хотят увековечить существование "экономических разновидностей" людей, различающихся по своему образу жизни, — людей, испытывающих удовольствие от того, что они занимаются именно этим, и никаким иным, делом, и, следовательно, так глубоко опустившихся, что они радуются своему собственному порабощению, своему превращению в однобокое существо.
|
|
Едкий сарказм — и полнейшая злободневность! Сотни лет буржуазная пропаганда пытается воспитывать в людях гордость за свое дело, привязанность к своей работе — и корпоративный дух. Что удивительно, именно этим занимаются и большевики! Вот, у Крупской:
|
Правильный выбор профессии будет давать максимум удовлетворения работой и повышать ее эффективность.
|
|
Отсюда практика: почетные звания и прочие отличия, плакаты, пресса и кино, трудовые династии... Уродство капиталистического разделения труда в конфетном фантике. Еще один гвоздь в гроб революции.
Для развития человеческой разумности важно поддерживать тягу к универсальности, приветствовать широчайшее самообразование и смену деятельностей — уход от профессиональности как таковой. Капитализм будет сопротивляться, подстраивать все новые кризисы как предлог для ограничения круг возможностей. Сегодня предпочитают работников, способных жертвовать личной жизнью во имя процветания бизнеса, — но падение уровня жизни заставляет людей искать дополнительные источники дохода, заниматься индивидуальным предпринимательством. Это еще не выводит нас за рамки дурной однобокости, оставляет во власти рынка, — но рождает сознание принципиальной возможности свободного труда, стремление высвободить время для творчества (хотя бы и на уровне организации досуга, увлечений и развлечений). Даже уродство нынешних социальных сетей — извращенная форма тяги к духовной свободе. А это значит, что нерыночный сектор экономики жив, и будет жить, и будет расти — вплоть до превращения товарного обмена в полную бессмыслицу.
* * *
Арабы издревле считали европейских женщин распущенными — и когда женщина в Египте или на Ближнем Востоке появляется на людях в одиночку, это воспринимается как желание приключений; тамошние мужчины искренне удивляются, если их приставания резко отвергают и зовут на помощь полицию. Во многом сказывается традиционное отсутствие у мусульман интереса к европейской культуре, нежелание вообще что-либо знать об иноземных традициях. Поэтому большинство мигрантов не ассимилируются в Европе, не перенимают европейский образ жизни, — а наоборот, насаждают свои традиции, вынуждая европейцев терпеть любые выходки — и угрожая тем, кто недостаточно почтителен к исламу. Справедливости ради, следует заметить, что и европейцы не особо считаются с "туземными" нравами — и лезут со своим уставом в каждый монастырь. Отличие только в допущении, что знание местных обычаев иногда может быть полезно для бизнеса.
Однако во времена крестовых походов завоеватели вообще не воспринимали население Сирии и Палестины как партнеров: для них это лишь плательщики дани и подневольные работники. Рабы. Писатель XII в. Усама б. Мункиз рассказывает анекдот о том, как рыцарь приходит в хамам вместе с женой в мужской день, да еще и заставляет банщика брить ей передок; его читатели, конечно же, считали это дурным тоном, свидетельством дикости европейских нравов, — тогда как на самом деле тут подчеркнутое пренебрежение: крестоносец ни во что не ставит арабов, и ему даже в голову не приходит, что это не какие-нибудь евнухи, не слуги, не вещи с глазами (а обнажаться перед рабами — ничего зазорного).
В Европе того времени банные обычаи тоже существовали — и женщины, как правило, мылись отдельно от мужчин; более того, кое-где женщине было неприлично видеть даже собственную наготу, и мылись в специальной одежде (и несколькими веками позже дамы были обязаны надевать закрытые платья при посещении морских купален). Конечно, простонародье в бани не ходило — выбирали укромные места по берегам рек.
С другой стороны, среди европейских аристократов позволение мужчинам присутствовать при дамском туалете считали просто знаком особого расположения — и не видели в этом ничего дурного. Для мусульман это уже с середины VII века — недопустимая вольность (хотя у кочевников древности мужчина мог запросто провести в девичьей палатке всю ночь). Обычная светская беседа (не без кокетства!) — это уже чересчур. Такое поведение, на восточный взгляд, практически не отличается от проституции — которая вообще в арабской культуре явление ненормальное (зачем им публичные дома, когда по закону можно иметь несколько жен и сколько угодно рабынь?). Впрочем, свидетели "подвигов" крестоносцев вряд ли могли свободно общаться с благородными дамами — и судили обо всех именно по проституткам. Так, абу Шама рассказывает, как морем прибыли "три сотни красивых франкских женщин с островов" (а у арабов светлокожие и голубоглазые считались очень красивыми) дабы предложить облегчение любому франку, пожелавшему их услуг. Называли конкретные цены — полагая, что это касается всех европейских женщин без исключения. Когда крестоносцев начали выдворять с захваченных территорий, мамлюк Бейбарс запретил проституцию: все проститутки должны выйти замуж и быть запертыми дома! Современные мусульманки настаивают, что им в гареме хорошо, что для женщины это завидная доля... Но с точки зрения движения к разуму, то есть, к свободе и любви, даже право торговать своим телом — свидетельство значительного прогресса европейской нравственности со времен древних греков, которые (подобно арабам) стремились запереть женщину в доме, считая ее собственностью "домохозяина" (Аристотель ставил женщин ненамного выше рабов). Женщины воительницы для греков были экзотикой — отсюда легенды об амазонках. Точно так же средневековых арабов изумляло присутствие женщин в рядах крестоносцев — так что их было не отличить от мужчин, пока не сняли доспехи. Имад ад-Дин писал: "Они ведут себя так же, как те, кто наделен разумом, хотя они и женщины". Вспомним, что в разуме Аристотель женщинам отказывал (хотя современные ему киники уже допускали равенство с женщинами). Когда Усама говорит о франкских женщинах: "Женщина знает лучше о своих делах; ее интимные части принадлежат ей; если она пожелает, она может хранить их, а если пожелает, может дарить их", — это, конечно идеализация реальности; но в этом выражение невероятной для мусульман свободы и равенства полов. До полной эмансипации оставалось еще восемь веков — но исламские страны не прошли этого пути до сих пор.
* * *
Г. В. Плеханов:
|
Совершенно очевидно, что если каждый из нас является субъектом для себя (я), то для других людей он может быть только объектом (ты).
|
|
Метафизические очевидности нам не указ! Плеханову по заслугам доставалось от Ленина за абстрактный педантизм, попытки свести марксизм к простым и обязательным для всех правилам; безоговорочное разведение я и ты по разные стороны бытия — непростительная логическая неряшливость у начитанного профессора. О гегелевском принципе развития и снятия противоположностей Плеханов, разумеется, наслышан — только взаимосвязь природы и духа почему-то превращает в абсолют. Но отказ от историчности автоматически есть принятие действительности в той форме, в которой она дана человеку на данный момент, — а значит, плехановская метафизика есть, по сути, апологетика капитализма. Ленин сумел сделать решительный шаг [29, 90]:
Различие субъективного от объективного есть,
НО И ОНО ИМЕЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ.
|
|
Здесь отличие настоящего марксизма от начетнических опошлений. Субъект — это объект, который... Объект — предстоящее субъекту... Не бывает одного без другого.
Первично я воспринимаю другого как объект — и на этом стоит иерархия классовых обществ, цивилизация. Чисто внешнее отношение одних к другим, вполне подобное акту товарного обмена.
Однако разумное существо не может этим ограничиться: ему важно увидеть в другом не только объект, но и равного себе субъекта, — это и есть любовь!
Но и это еще не все. На следующей ступени другой становится синтезом объекта и субъекта, продуктом, — и таким образом я сознаю собственную культурность. Ни я, ни другой, — уже не сами по себе: каждый из нас представляет общество в целом. Различие я и ты снимается, уходит в тень, — а на первый план всплывет что-то другое. Что? Например, наша общая способность одухотворять природу. Уважительное отношение к кошке — в каком-то смысле поднимает ее до уровня человека; и наоборот, кошка способна пробудить в человеке собственно человеческое... В природе нет ни красоты, но логики, ни блага — но мы делаем ее и тем, и другим, и еще много чем.
* * *
Паскаль (309):
|
Понятие справедливости так же подвержено моде, как женские украшения.
|
|
Тем не менее, украшения остаются украшениями спустя десятки веков. Современная дама (не обязательно модница) с удовольствием примерит доисторическое золото или роскошь средневекового платья. Она не будет это носить — но ей это приятно.
Игры людей длятся тысячелетиями. Наши идеи переживают наши понятия. Красота прячет себя за украшениями. Но одно дело — подавать товар лицом, и совсем другое — попробовать стать красотой, перелить себя в вещь ради высокого искусства. Бывает, что одно от другого не отделить — но различие все-таки есть, и только поэтому жива красота.
* * *
Маркс, О свободе печати [1, 79]:
|
Подобно тому как каждый учится писать и читать, точно так же и право писать и читать должен иметь каждый.
|
|
Дело не в том, чтобы иметь право (тем более по долгу, обязанности, официально), а в том, чтобы иметь возможность. Пусть каждый пишет что угодно — но мы просто не дадим это публиковать, и запретим самиздат; будет это свободой? Каждый имеет право читать написанное кем угодно — но пусть он еще попробует до этого дотянуться! Если кто-то уже съел яблоко — как мне заставить его со мной поделиться?
Вопрос не в правах, а в создании такой системы общественного производства, при которой сама идея права перестает существовать. Есть у меня потребность — это и общественная потребность, и общество делает все, чтобы возможность (реальная, а не только теоретическая) у всех желающих была. Но в этом случае потребности каждого — важны всем, и доступное одному становится непосредственно доступным другому. Ясли яблоко съел кто-то другой — мне это столь же приятно, как если бы я съел яблоко сам; никакой дележки (а значит, и вопроса о правах) в таком обществе просто быть не может. Ср. у Маркса [42, 146]:
|
поскольку человек человечен, а следовательно, и его ощущение и т. д. человечно, постольку ⟨потребление как онтологическое⟩ утверждение данного предмета другими людьми есть также и его собственное наслаждение
|
|
Когда я потребляю — я самим актом потребления создаю нечто универсально значимое, участвую в процессе строительства культуры в целом. Я это знаю — и знают все. Легко видеть, что подобная взаимосвязь индивидуальностей в составе целого — это любовь. В классовом (заведомо несвободном) обществе любви приходится встраиваться в наличные классовые формы, и тогда борьба за буржуазные (политические) свободы становится одним из воплощений любви.
* * *
Мо Цзы:
|
Высшие интересы людей не в односторонней любви, а во всеобщей любви. Но всеобщая любовь, преломляясь в отношении каждого человека, основывается на интересе данного человека, а интересы людей различны, значит, любовь по отношению к каждому отдельному человеку различна, но в целом она обща, сходна, так как это любовь к людям.
|
|
Внешне — противоположность конфуцианству. У моистов любовь — всеобщее, из которого вырастают частные проявления. Напротив, конфуцианцы (не будем путать их с реальным или мифическим Кун Цзы) изначально полагают любовь частным делом, пробуждая тем самым в ней индивидуалистическое, корыстное; в таком понимании любовь легко становится всеобщей — как элемент государственности.
Мо Цзы:
|
Любовь к людям должна быть бескорыстна.
|
|
Конфуций говорит: не делай людям того, чего не желаешь себе... Это формула корысти: вместо того, чтобы вместе делать общее дело — договорные отношения, невмешательство в чужой бизнес. Свобода как разъединение, а не единство. Но, как выясняется, моисты, со всей их всеобщностью, недалеко от Конфуция ушли:
|
... не должно быть человека, которого бы не рассматривали как равного себе, не питали бы к нему любви, как к себе.
|
|
Вот так, за упокой... Опять всех начинаем мерить по себе. Только из области действия этот эгоизм перекочевал в сферу духовности. Логичнее было бы сказать: видеть в каждом частицу всеобщего, любить в каждом (включая себя) человеческое (не закрывая, однако, глаза на остальное, недостойное любви).
* * *
Мюссе в письме Жорж Санд:
|
Любите тех, кто умеет любить, я умею только страдать.
|
|
Страдание как один из ликов любви — почему бы и нет? Другое дело, что никто не обязан страдать в ответ: можно разделять любовь — и это будет любовь; но разделить страдание — это всего лишь сострадание.
* * *
Йозеф Геррес:
|
В идеальности, господство исчезает в любви, и ни один не подчиняется, ни один не повелевает, ни один не клянется в верности, ни один не требует клятв.
|
|
Важно, чтобы господство исчезало не только в идеальности — надо изгонять его из повседневной жизни людей. Совершенно практическими действиями. Нет этого — и любви летать негде. Вместо бесконечно разнообразного по телесным формам человечества, где уже не играет никакой роли физиология пола, — господин Геррес на веки вечные закрепляет разделение полов:
|
Чувства женщины — призма, преломляющая единый луч,— получаются бессчетные лучи цвета; фантазия мужчины — линза, собирающая в фокус лучи духа, зажигательное стекло; поэтому аналитический вкус — вот сфера, в которой может проявить себя женщина, а сфера мужчины — синтезирующий, все связующий дух. Поэтому, во всем производимом ими совместно, мужчине подобает творчество, а женщине — познание и сохранение наилучшего.
|
|
Более того, воспитание мужчин предполагается поручить мужчинам; женщин пусть "ваяют" женщины... Отсюда — а вовсе не из природной предрасположенности — растут ноги у внешне очевидного различия полов (по первичным, вторичным и прочим признакам).
Красивые жесты в сторону женщин — не заменят реального дела; предложения "признать" — всего лишь призыв не отказываться от полезного кусочка собственности:
|
Тысячи мужчин видят в женщине только животное, не предполагают в ней и не признают за ней души, а в результате добровольно отказываются от того, что принадлежало бы им
|
|
Потому что женщине не подобает оставаться самой по себе:
|
Вся природа сошлась для женщины на ее любимом, и в эту природу она погрузилась, забыв о себе; этой вселенной всецело принадлежит она, ее жизнью только и живет. Поэтому любовь женщины — это преданность; лишь тогда, когда совершенно забывает она о своей личности ради мужа, она любит вполне, любит по-настоящему.
|
|
И в ответ, конечно же, подобает толика мужской привязанности:
|
Обретая возлюбленную, он впервые радуется всему богатству своей внутренней природы, потому что может одарять этим богатством.
|
|
Это сродни радости от удачной сделки, полезного приобретения — которое при необходимости можно снова запустить в рыночный оборот...
Предел фантазии немецкого романтика — миф об андрогине: "мужеженщина", слияние мужского и женского начала, которое вновь и вновь вынуждено распадаться на все ту же половую противоположность, ибо иначе — конец всему. И снова десятки страниц о взаимном притяжении противоположностей...
Господа-теоретики видят любовь только со стороны "тяготения", товарного обмена:
|
А подобно тому как притягивают друг друга дружественные полюсы магнита и положительные и отрицательные заряды стремятся друг к другу, так стремятся друг к другу мужчина и женщина, а что притягивает их и в чем склоняются они друг к другу, — это любовь.
|
|
Но в жизни любовь сложнее — она может и отталкивать людей друг от друга, запрещать единство — и тем самым восстанавливать его в иной, отрицательной форме. Все это частности, обусловленные внешними обстоятельствами. Суть же в том, что любовь снимает всякую поляризацию, и нет больше ни притяжения, ни отталкивания, двое становятся одним.
* * *
Лонг, Дафнис и Хлоя:
|
[...] восхищение это было началом любви. Что с ней случилось девочка милая не знала, ведь она выросла в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова "любовь".
|
|
И немного ранее о такой же наивности взрослых:
|
[...] жертву в пещере у нимф принеся крылатому мальчику (имя его назвать они не умели)
|
|
Разумеется, это художественное преувеличение, развертывание исходно религиозной авторской идеи. Но само возникновение подобного образа невозможно на пустом месте: предполагается, что серьезные различие культурного плана в обществе существуют — и в какой-то мере осознаются. Понятно, что источник мифов — устная народная традиция, и потому народ в безусловно знаком со многими персонажами; с другой стороны, культовая и литературная мифология — это уже постановление сверху, и массы вовсе не обязаны следить за полетом фантазии господ-захребетников. По большому счету у Лонга очень верное наблюдение: людям все равно, как там кто называется, они не собираются вникать в полномочия богов — и просто отдают всем что положено по обычаю, лишь бы отделаться. Обычное отношение к начальству. Такова и средневековая христианская обрядность.
На заднем плане — различие уровней грамотности. Буржуазные теоретики склонны трактовать античное культурное наследие слишком расширительно, как культуру масс. Это заведомо не так — классовая культура остается преимущественно достоянием господствующего класса (хотя, разумеется, в хозяйстве были полезны и грамотные рабы). Типичный образчик псевдоистории — у И. Дьяконова:
|
Грамотность среди народов древности была вообще распространена значительно шире, чем в эпоху средневековья, евреи же пронесли традицию грамотности, как часть предписанной религиозной догмы, даже и сквозь средневековье.
|
|
Вроде бы, еще советские времена, — но вместо здравого смысла сплошные натяжки под еврейскую пропаганду... Мало того, что в одну кучу валят свободных и рабов, богатых и бедных, — но даже среди богатых поголовная грамотность — миф. Испокон веков существовала профессия писца, грамотея, "держателя книг", — особая прослойка, за деньги выполняющая трудные для большинства умственные задачи. Косвенным подтверждением может быть востребованность ораторского искусства, и метод Сократа... Опора на звучащее слово важна там, где вероятность быть прочитанным заведомо мала.
Заметим, что и еврейская диаспора отнюдь не блистала знанием иврита и умением читать книги; большинство говорило на местных языках, а для обрядовых действий — специально обученные чтецы. Подобно тому как католическое богослужение вовсе не предполагает поголовного знания латыни.
Любовная наука для рабов и свободных бедняков оставалась тайной за семью печатями — в этой среде она просто не востребована. Что нужно для продолжения рода — и так сделается; улаживать семейные дела будут старшие, да поставленный над всеми столичный чиновник. Как не вспомнить и нашу литературу: няня Татьяны у Пушкина.
Любовь дело хлопотное, тут нужны достаток и досуг. Но даже если они в наличии — вовсе не факт, что появится потребность. Без особой культурной предрасположенности не обойтись: что-то должно толкнуть к этому, подсказать, наметить формы (как у Ларошфуко).
Роман Лонга — вовсе не легкое чтиво; он ставит серьезную проблему: каким образом в человеке пробуждается духовность? Прототип буржуазных робинзонад. Мысленный эксперимент. Лонг вынужден прибегнуть к вмешательству богов — но античные боги как раз и представляют духовное в человеке, и вопрос остается открытым: откуда оно взялось? В античной терминологии: как возникают боги? Ссылка на других богов — отодвигает ответ в дурную бесконечность. Ответ Лонга — прирожденное качество аристократических душ (о чем с самого начала говорит богатое приданое младенцев). Другими словами: любовь была всегда, она только просыпается в людях, ведет их — каждого своим путем. Но тогда логичный вопрос: не слишком ли долго она спит? Как сделать так, чтобы все были достойны любви?
* * *
Попсовые экскурсы в историю грешат вопиющими нелепостями — но так ли уж они отличаются от академической истории? И в том, и в другом случае — прошлое натягивают под заранее заготовленные выводы по поводу будущего — и вопрос лишь о форме изложения (подтасовки) фактов; художественное бытописание в этом отношении честнее: автор больше заботится о читателе — и не морочит ему голову, а делает приятно.
Попсовая (и академическая) политэкономия — не исключение. Нам рассказывают сказки о воображаемых предках — и на этом основании предлагают оставить все как есть — или разрушить до основания. Когда Энгельс издевается над робинзонадами Руссо и Дюринга — он забывает, что через несколько лет ему предстоит столь же наивно следовать за "реконструкциями" Моргана, и что из этой политической робинзонады многие поколения марксистов будут выводить вроде бы разумные, но совершенно несовместимые друг с другом следствия. Любая сказка годится, чтобы обосновать любой интерес. А задумываться над логикой ни автор, ни массовый читатель не обязаны...
Вот, например, боец за права женщин З. И. Лилина в своей "теоретической" книжке изрекает:
|
Первое разделение труда началось между мужчиной и женщиной. Будучи связанной деторождением и заботой о детях, женщина не всегда могла участвовать в охоте или войне. Она оставалась дома, занимаясь сбором плодов и присмотром за детьми.
|
|
Если разные лица занимаются разными делами — это вовсе не разделение труда! Если одна обезьяна ест банан, а другая лакомится выуженными из дупла гусеницами — они от этого не станут узкими специалистами по части поедания того и другого соответственно. Когда самки некоторых видов птиц высиживают потомство, самцы носят им пищу — но иногда могут даже подменить в гнезде, чтобы дама могла отлучиться по неотложным надобностям. Есть тут что-нибудь от мерзостей капитализма? Ни капельки.
Чтобы возможно было говорить о разделении труда, требуется иметь в наличии, как минимум, две идеи: идею труда — и идею разделения. Первое означает, что какие-то занятия воспринимаются не как отправление естественных надобностей (то есть, по сути, вообще не воспринимаются), а как сознательная деятельность, направленная на производство вполне определенного продукта. Идея разделения — требует столь же ясного осознания общественных (а не природных) различий, в силу которых некоторые члены общества не имеют доступа к средствам производства в уже обособившихся отраслях. Ни того, ни другого в первобытной общине быть не могло: во-первых, большинство людей до сих пор не доросло до понимания общественного характера производства детей (не только в смысле тел, но и как членов общества); во вторых, сама возможность общественных различий уже предполагает образование общественных структур, не позволяющих всем заниматься всем, — а это уже зародыш классового общества. Получается, что "разделение труда между мужчиной и женщиной" началось потому, что человечество уже стало неоднородным, и стало возможным не только отличить одни группы о других, но и выставить экономические барьеры.
Между прочим, как только женщина перестает кормить грудью, у нее прекращается лактация — и женщина становится активным членом общества, ничем не отличаясь от мужчин (которые вполне могли бы посидеть с детьми и вскармливать их искусственно). С другой стороны, и кормящие матери зачастую вынуждены работать — а декретный отпуск после родов длился меньше двух месяцев (и только в последние годы появились длинные отпуска, до нескольких лет). Поэтому валить на детей ответственность за классовые институты — это неправильно.
В качестве бонуса: самосознание складывается намного позже сознания — и, насколько можно судить по этнографическим данным, у древних народов один член рода почти не отличал себя от другого, каждый осознавал себя всеми вместе; на более высоком уровне, именно это мы хотим видеть в будущем (бесклассовом) обществе — известны и классовые прототипы ("один за всех, все за одного").
Метод исторической науки ничем не отличается: общественные структуры выводят из (якобы объективных) предпосылок, для которых аналогичные структуры уже должны были бы наличествовать. Это не просто вопрос о курице и яйце — это проекция классового сознания на доклассовые реалии, о которых наука просто не умеет (или не хочет) выражаться определеннее.
По логике, говорить о происхождении различий можно лишь по отношению к чему-то, в чем этих различий нет. Из этой синкретической цельности при определенных условиях могут вырастать аналитические структуры — и задача историка не в том, чтобы просто постулировать возможность, в том, чтобы выяснить, каковы эти условия — и что может получиться при другим раскладе. Например, обыденная мораль как форма синкретической рефлексии может порождать как право, так и религию, — но для этого необходимо, чтобы материальное производство было отделено от духовного (а это не всегда так); обратно, право и религия порождают новые синкретические формы: правосознание и суеверие — на основе которых возможны иные культурные деления. Так и в истории разделения труда, зарождения классов.
Но вместо этого предкам продолжают приписывать сегодняшние взгляды — и путаются на каждом шагу. Например, первобытная община по Лилиной уже знает зачатки судопроизводства, прототипы силовых структур, развитую религиозность:
|
В каждой общине с самого начала существуют известные общие интересы, соблюдение которых возлагается на отдельных членов общества. Таковы — разрешение спорных вопросов, надзор за водохранилищами, некоторые религиозные обязанности и т. п.
|
|
Опять телега впереди лошади. Отсюда несложно вывести и разделение властей (как минимум, на светскую и военную) — причем не просто так, а в силу общественного договора:
|
Должностным лицам повинуются, ибо без повиновения не может быть проведен в жизнь организационный план.
|
|
То есть, сознательные дикари все как один держат в голове общий "организационный план" — и соглашаются пожертвовать (откуда-то взявшейся) личной свободой ради общего блага (которое тоже надо было осознать в этом качестве). Даже сегодня обыватель так просто не отличит следование традиции (или предрассудкам) от повиновения — машина промывания мозгов убеждает граждан, что их рабство и есть самая что ни на есть демократия и свобода. Полагаете сто тысяч лет назад народ был догадливее? Лилинские дикари, как мы видим, уже доросли до обязанности содержать чиновников; но они, оказывается, пошли еще дальше — и готовы позаботиться и о членах (выскочивших как чертик из табакерки) семей! Мадам ни словом не обмолвилась о возникновении этого характернейшего института классовой культуры; вроде бы оно было всегда, и тут даже обсуждать нечего! После того нас будут уверять:
|
Ни само должностное лицо, ни семья его ничем не выделяются. Власть его не носит на себе никаких следов эксплуатации или угнетения. Все члены рода по-прежнему равны. Все производят на благо своего рода и все распределяется по потребностям. При этом ни лицо, исполняющее общественные обязанности, ни семья его не получают больше того, что получают другие члены рода.
|
|
Если одни властвуют, а другие повинуются, — это что, никакой выделенности? Если семья чиновника есть именно его семья — неужто она никак не отличается от остальных? С другой стороны, сама необходимость распределения — это уже признание неравенства. Спрашивается, кто будет распределять? Как-то не очень верится, что первобытное чиновничество (как и остальное народонаселение) было настолько альтруистично, чтобы не урвать где плохо лежит; скорее, наоборот, лишь развитие цивилизации выставило дикому эгоизму классовые ограничения — объяснило, кого можно грабить, а кого не рекомендуется. Как показывает опыт, и сегодня несознательные граждане норовят при каждом удобном случае обойти закон — что, первобытный коммунизм был честнее? Не верим. Путь от животной безапелляционности до разумного самоконтроля — еще впереди. Только с уничтожением классов мы встанем на него — а сколько еще придется идти!
* * *
Аристотель, О государстве [1327b]:
|
... дружелюбие к своим и суровость по отношению к чужим, — есть мужество духа, от которого исходит дружелюбное чувство; ведь это и есть та способность души, благодаря которой мы любим.
|
|
В любви не может быть чужих и своих — она выше этого. Есть только ты и я — и нам нет дела до того, как другие к этому относятся. Поэтому настоящая любовь возможна лишь в бесклассовом обществе.
* * *
Victor Hugo, Préface de Cromwell :
|
... le christianisme a dit à l'homme : " Tu est double, tu est composé de deux êtres, l'un périssable, l'autre immortel, l'un charnel, l'autre éthéré, l'un enchaîné par les appétits, les besoins et les passions, l'autre emporte sur les ailes de l'enthousiasme et de la rêverie, celui-ci enfin toujours courbé vers la terre, sa mère, celui-là sans cesse élancé vers le ciel, sa patrie "...
|
|
Вот суть классового человека: разорванность, борьба с самим собой. Вместо единства, взаимоуважения, развития разных сторон целого друг через друга — непреодолимые барьеры и взаимное отторжение. Чем тогда один полюс лучше другого? — они оба ущербны, ограниченны, неразумны. Нет неба там, где нет земли. Природа пропитана духом, дух невозможен без природы. Только так возможен созидательный, творческий труд — только так возможна любовь.
* * *
В. И. Ленин [35, 203]:
|
"Кто не работает, тот пусть не ест" — вот практическая заповедь социализма. Вот что надо практически наладить.
|
|
Корявый перевод — явление идеологически вредное. Нет в русском языке повелительного наклонения в третьем лице — так не надо его изобретать. Русский язык достаточно выразителен, чтобы верно передать смысл — не привязываясь к словарю. Не нужно архаики (тот да не ест!). Можно поговоркой: не поработаешь — не поешь! Со всеми ее эффектными многосмысленностями. Или: по мере труда — будет и еда! "Нейтральный" стиль тут по самой сути неуместен — но если уж очень хочется, пожалуйста: кто не работает — тому есть не давать.
Неудобность русские сократили: кто не работает — тот не ест. Это уже другой смысл. Вместо общественной нормы — субъективное ощущение. И ни о каком внешнем "налаживании" речи быть не может.
* * *
Ф. Бэкон, Опыты:
|
Но очень немногие понимают, что такое одиночество и до чего оно доводит, ибо толпа не есть общество, и лица — всего лишь галерея картин, а разговор — только звенящий кимвал, где нет любви.
|
|
Спрашивается: где же найти любовь, если не в этой самой галерее? Одиночество острее в толпе — но толпа единственное лекарство. Она же, как известно, лечит и от любви (Овидий):
Только не будь одинок: одиночество вредно влюбленным!
Не убегай от людей — с ними спасенье твое.
Так как в укромных местах безумнее буйствуют страсти,
Прочь из укромных мест в людные толпы ступай.
|
|
Прямо-таки панацея! В чем секрет? А в том, что настоящая боль — неизлечима, а желание излечиться — явный признак здоровья. Убегать от одиночества — уже не быть одиноким; убегать от любви — уже не любить. В первом случае молчаливо предполагается, что родная душа все-таки возможна; даже если ее нигде нет — мы с ней уже знакомы и можем общаться независимо от телесного присутствия. Во втором — еще проще: тяготиться любовью может только лишенный любви; истинно влюбленному — она высший закон, и вылечиться от любви — все равно что убить себя.
Очень немногие понимают, что такое одиночество. Если совсем коротко — это осознание собственной разумности. Разум бесконечно разнообразен — отсюда уникальность каждого разумного существа. Человек воспринимает свою единственность и неповторимость как равенство миру в целом — который тоже только один. В этом контексте глупо выглядит бэконовская высокопарность:
|
Я предлагаю следующее правило на тот случай, когда человек не может подобающим образом сыграть свою собственную роль: если у него нет друга, он может покинуть сцену.
|
|
Предлагаете миру исчезнуть? Так не пойдет. Если чего-то пока нет — это надо сделать! Мир распадается на мириады отраженных в друг друге и связанных воедино вещей; человеку надо пересоздать мир так, чтобы одно одиночество отразилось в другом — и тем самым воссоединилось бы с ним.
* * *
Лоренцо Пизано, Диалоги о любви:
|
В безудержной любви духовная сила и порыв делают ее формой любящих, которые превращаются в нечто единое с любимыми вещами и простое. Любящий обретает новую форму в любви и становится единым с любимым. Если любовь довольствуется внутренним и отвергает телесное, она растет, созерцая вечную красоту и истину, и слабеет от желания нерушимого блага. Такая любовь имеет обыкновение мешать деятельности низших потенций, захватывать их, поглощать и увлекать за собой вследствие сильного желания духовного удовольствия.
|
|
Любовь как форма — это уже неплохо. Но собственно любовью это становится только после перехода в самую суть. Которая превосходит даже единство — снимает его в тождестве. Такая любовь ничем не довольствуется — ей нужен весь мир, во всех его проявлениях: внутреннее тут ничем не предпочтительнее внешнему, телесное слито с духовным. Как только мы начинаем разделять — возникает иллюзия "высшего" и "низшего", оправдание господства одних над другими. Только тогда одно может помещать другому — если вместо соединения всех усилий исходят их подчинения чему-то одному (тем более если речь о корысти, об удовольствии). Но тогда вознесенное над остальным оказывается в полной зависимости от него; господство есть худшее рабство. Принижение плоти во имя духовности — опошляет духовность, сводит ее к плоти целиком и без остатка. Поэтому мистика христианской любви — другая сторона вульгарного эмпирионатурализма.
* * *
Аврелий Августин:
|
К тому же более естественным представляется господство одного над многими, нежели многих над одним. И невозможно сомневаться, что, согласно естественному порядку, мужчины лучше господствуют над женщинами, чем женщины над мужчинами.
|
|
Фантастическая смесь апелляций к "естественности", беспочвенных фантазий и совершенно противоестественной идеи господства!
Логика истории говорит: единоначалие неизбежно сопровождается классовым давлением, господством общественной группы над каждым из ее членов. Это стороны одного и того же. Поэтому усердное насаждение якобы коллективности означает подчинение ее усилий интересам отдельных лиц.
Точно так же, в отношениях мужчин и женщин не все так однозначно: если одна из сторон не прочь поэксплуатировать другую — ответный ход не заставит себя ждать: играть на слабостях господ тем удобнее, что сам факт господства их откровенно обнаруживает.
* * *
Н. К. Крупская
Вопрос, выдвинутый ходом соцстроительства (1936)
В рефлексии многие явления видятся в порядке, обратном объективному ходу вещей. В частности, последовательность изучения любого предмета (как в школе, так и в науке) обратна истории его становления: мы начинаем с готового результата, с того, что на виду, — потому что именно это нам нужно для последующей деятельности; потом приходят обоснования и обобщения. На этом момент почти не обращает внимания марксизм — и тем удивительнее встретить у Н. К. совершенно точное выстраивание методики преподавания основ организации труда:
Курс "организации труда" надо начать с организации умственного труда отдельного человека
Потом перейти к вопросу о коллективном умственном труде
А затем перейти к результатам громадной работы величайшего коллектива — человечества
Затем перейти к вопросу об увязке теории и практики умственного и физического труда, их взаимозависимости и взаимодействии.
После этого надо перейти к физическому индивидуальному труду.
Вопрос о коллективном физическом труде
Особо надо будет остановиться на роли организации труда в управлении
Наконец, вопрос о планировании работы государства
|
|
Объективно, способ производства в целом определяет организационные формы, а материальное производство — основа духовного. Особенности единичного труда обусловлены порядком социализации, они вытекают из общекультурного процесса. Но в рефлексии на удобно начать с себя, и постепенно развертывать иерархию — переходить от единичного к всеобщему, от эмпирии к абстракциям. Но останавливаться на этом нельзя: на следующем этапе предстоит научиться делать абстрактное конкретным, предвосхищать такие формы, которых еще нет — но которые должны возникнуть по объективной логике общественного развития.
* * *
Лабрюйер:
|
Хотя между людьми разных полов может существовать дружба, в которой нет и тени нечистых помыслов, тем не менее женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же как он будет видеть в ней женщину. Такие отношения нельзя назвать ни любовью, ни дружбой: это — нечто совсем особое.
|
|
Но почему секс обязательно из нечистых помыслов? Половая любовь далеко не всегда грязь — ее смешивают с грязью те, кому очень не хотелось бы иметь дело со свободными людьми. Уберите грязный предрассудок — и любовь от дружбы не отличить! Одно прекрасно сочетается с другим — взаимопревращение, мерцание.
* * *
Апулей, Золотой осел
Знаменитая сказка об Амуре и Психее.
Роман целиком замешан на философии — намеренно, грубовато-наивно. Продолжение традиций классической античной драмы — и предвестие утопий Нового времени (начиная с Мора и Рабле). Однако эта "вставная новелла" явно выходит за рамки всего лишь дивертисмента: 16% текста — это очень немало (особенно учитывая, что кульминация замысла, последняя глава, — занимает менее пяти процентов). Нечто похожее мы встречает в индийском эпосе: Бхагавадгита раздвигает текст Махабхараты.
Скорее всего, перед нами не собственно художественный текст, а одна из древнейших "теорий" любви — облечь которую в форму сухого философствования было (особенно учитывая личность автора) просто немыслимо. Парадоксальным образом, вульгаризация здесь оберегает нежнейшие чувства от вульгарного опошления.
Наши современники приучены стесняться любви — и прячут ее под маской нарочитой грубости, демонстративного легкомыслия, бытового морализаторства... Капитализм — общество бездуховности, и любовь ему поперек горла: ее свобода не вписывается в убогую примитивность рынка. Ему надо устранить любовь из духовного производства, закатать искренние чувства в рекламный глянец. Спасение одно: прикрыть робкие ростки заскорузлой коркой — подобно тому как жидкая вода на далеких от Солнца телах отделена от космического холода толстым слоем льда. Нечто подобное, на фоне позднеримского культурного нигилизма, вынужден взять на вооружение и провинциал Апулей. Вкладывая историю в уста "выжившей из ума старушонки" — он как бы открещивается от этой философии (на случай, если не так поймут); однако есть и другая сторона: внезапно открывшаяся бесконечность пугает философа, и ему надо отдышаться, прийти в себя.
Идейный посыл сказания об Амуре и Психее: любовь делает душу бессмертной. Не чувственность, не влечение, — а именно любовь, духовное единство. В отличие от Татия и Лонга — здесь нет собственно сексуальности; это (может быть, впервые в древней истории) разговор о любви как таковой, "в чистом виде". Вдохновенный манифест, дерзкое пророчество. Заметим, что любовь приходит к Психее не как озарение, не в праздничном блеске, — а всего лишь как неожиданная сторона супружества:
|
... новизна от частой привычки приобретает для нее приятность, и звук неизвестного голоса служит ей утешением в одиночестве.
|
|
При том, что лишили ее девственности совсем буднично — буквально, одной фразой:
|
Но вошел уже таинственный супруг и взошел на ложе, супругою себе Психею сделал и раньше восхода солнца поспешно удалился.
|
|
Так и подмывает считать слова "восход солнца" намеком на восход любви. Но это дело будущего. А пока — преобладают родственные привязанности, чем злонамеренно пользуются духовно убогие сестры, подговаривая убить таинственного супруга (кстати, сама по себе мысль безумно еретическая: отрезать голову божеству! — люди уже готовы осознать свою духовность, выбросить богов за пределы своего мира)...
Но тут, после долгой телесной близости, — у Психеи открываются глаза (образ лампы очень уместен!) и она падает в любовь целиком. Гениально угадана другая сторона света:
|
Эх ты, лампа, наглая и дерзкая, презренная прислужница любви, ты обожгла бога, который сам господин всяческого огня.
|
|
Чрезмерность — гибельна для любви. Упоение — утрата духовности.
Но нет лекарства от любви кроме любви! Психея пытается — но не может убить себя; это означало бы убить любовь. Ради любви Психея добровольно отдает себя во власть Венеры (еще одно иносказание: чувственная, телесная сторона любви) и готова терпеть любые страдания, без малейших колебаний идет на любой риск.
Но прежде — окончательный разрыв с родовыми корнями, страшная месть сестрам. Ведь ее возлюбленный гораздо раньше пренебрег сыновьей почтительностью — и не исполнил указаний могущественной родительницы (с которой даже Церера и Юнона ссориться не желают). Очевидная преемственность от Гемона в Антигоне.
Впрочем, Венера, при всей бурности протестов, заранее смирилась с отведенной ей ролью и встречает Психею словами:
|
Наконец-то ты удостоила свекровь посещением!
|
|
До свадьбы еще далеко — но дело сделано: где есть любовь — закону придется отступить. Впрочем, не бывает необходимых законов — то есть таких, которые нельзя было бы обойти. Кому как ни Юпитеру об этом знать! Психее подносят кубок амброзии — и она уже равна богам, и венерин "знаменитый род и положение" уже не "пострадают от брака со смертной". Кстати, и сама Венера, распекая отступника-сына, грозилась усыновить кого-нибудь из рабов (стираются грани!) и сделать его наследником, вместо Купидона.
На фоне всего этого — многочисленные меткие замечания и многозначительные намеки. Наслаждение как дочь Амура и Психеи — воистину так! Речь о духовности, о человеческом чувстве — а не о физиологии ощущений.
Или совсем маленькая деталь: баночка с "божественной красотой" на самом деле содержит "только сон" — тут великолепная игра слов, достойная будущих французов: с одной стороны, какая красота когда физиономия помята бессонницей? — но можно понять и так, что красота всего лишь сон — или ее божественность...
Влияние апулеевской сказки на европейскую культуру трудно переоценить. Но если искусство искони вдохновлялось богатством образов — философская содержательность держится в тени. Оно и понятно: пока у нас нет собственной мудрости — как сможем мы оценить мудрость древних? Осознание человеческой разумности — насущная потребность наших дней.
* * *
Бергсон (Henri Bergson) строит из себя идеалиста — в противовес погрязшему в эмпирии позитивизму. Но вот, например, его воззрения на искусство (L'évolution créatrice):
|
Illusion, sans doute, mais illusion naturelle, indéracinable, qui durera autant que l'esprit humain.
|
|
Неважно, к чему это относится (в данном случае — к представлению о выстраивании будущего во времени). Фразеология говорит сама за себя: дух сводится к природе, в которой нет ничего, кроме мгновений, чистой процессуальности (la durée) как таковой. Это вообще не отличается от позитивистской трактовки опыта как потока ощущений, которые можно упорядочивать как заблагорассудится.
Разумному человеку ясно, что в природе нет никаких иллюзий — иллюзии только у человека — они по сути своей противоестественны, и в этом их значение для становления идеи духа, не подчиняющегося никаким законам, а наоборот, перестраивающего вселенную по своим надобностям. Именно поэтому человек способен осознать иллюзии как иллюзии — и тем самым освободиться от них.
Можно было бы подумать, что это всего лишь небрежность выражения (при том что Бергсона превозносят как великолепного стилиста). Но чуть позже он публикует убогий трактат о природе комического (Le Rire) — и снова:
|
Mais de loin en loin, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachée de la vie. Je parle d'une détachement naturelle, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser.
|
|
Оказывается, что человечьи души — обычные порождения природы (вроде цветочков на лужайке), но некоторые души по природе (по воле случая) возвышеннее других, и "девственность" восприятия в них встроена самым вульгарным образом, как способность питания или размножения (или наподобие капель в дождевой туче). И после этого нам будут говорить, что
|
... le réalisme est dans l'œuvre quand l'idéalisme est dans l'âme ...
|
|
Бергсонианство на поверку оказывается лишь переряженной эмпирией, дальше которой философия "природности" не идет:
|
L'art n'est sûrement qu'une vision plus directe de la réalité. Mais cette pureté de perception implique une rupture avec la convention utile, un désintéressement inné et spécialement localisé du sens ou de la conscience, enfin une certaine immatérialité de la vie, qui est ce qu'on a toujours appelé de l'idéalisme.
|
|
Кому что вродили — тот то и вытворяет! Идеализм и материализм у Бергсона — вовсе не философские категории, не разные мировоззрения; это сугубо этические позиции: бескорыстие и корысть. Буржуа обвиняет публику в буржуазности — но делает это совершенно по-буржуазному, противопоставляя абстракции. Разделение труда: одним добывать хлеб насущный в поте лица — другим ничего добывать не надо (они отнимут у добытчиков), и можно с "девственной" совестью изображать полнейшую незаинтересованность... Наслаждающихся красивостями жизни — представляют невинными ангелами; измученных работяг — грязными стяжателями. Такова извращающая сила денег — по Марксу.
* * *
Инна Руденко, Адреса любви. — М: Правда, 1981.
Образчик официозной пропаганды, грязных политтехнологий — совершенно в духе запущенных тогда же в оборот пошлых компиляций из Сухомлинского и Макаренко. Даже там, где возможно усмотреть проблески будущего, — господа (апологеты господ) вытаскивают на свет самую дикость, подобно тому, как американцы тащат в суд белье, испачканное спермой президента, — развлечение для оскотинившегося обывателя...
Говорить о различии мужского и женского допустимо лишь там, где уже есть ясное сознание вторичности подобных различений, которые лишь придают целому разнообразие оттенков, игру теней. Если бы существовала хоть капля действительного равноправия — можно задумываться об опасностях преувеличения. Если освободить человека от животности — можно играть, творчески имитировать, создавать стилизации. Но где это в эпоху разлагающегося социализма? Нигде, ни в одной стране. В таком контексте быть женщиной (или мужчиной) — значит, одичать, истребить в себе разум, впасть в примитивнейшую физиологию.
|
Отношения двух складываются из компонентов личностного и чув-ственного. Так вот, у девушки на первом плане момент личностный, а чувственный просыпается значительно позже. И если девушка говорит "да", то это потому, что она или боится потерять того, кто ей дорог, или ею руководит любопытство.
|
|
Это самое интересное место: редкий случай отхода от заданных сверху стереотипов. Да, примитивно, на попсовом уровне, — но сравните с обличением девичей распущенности у Сухомлинского, который не признает, что именно дикие собственнические традиции заставляют девушек уступать домогательствам тех, кого общество (в лице того же Сухомлинского) назначило на должность главы семьи — независимо от деловых качеств и экономической базы. Людей загоняют в клетку — но какие у девиц средства повлиять на выбор цепей?
Пункт о любопытстве — это любопытно. Хоть что-то человеческое. Человек не подчинен телу — он исследует его возможности, готовится использовать этот инструмент — наряду с другими, составляющими неорганическое тело. Здоровая человеческая любознательность — этого нет у животных, поведение которых сугубо утилитарно, даже в игре. Протест против ханжества, идиотских табу, возрастных и правовых границ. В этой струе меткое замечание:
|
Мы же часто под половым воспитанием понимаем просто подавление полового чувства.
|
|
С маленьким (но принципиальным) уточнением: не бывает "полового" воспитания — воспитывают людей, а не биологических особей. Дать людям возможность в полной мере использовать доступные человеку природные ресурсы (включая физиологию пола) — задача не для классового общества, занятого, наоборот, нагромождением все новых ограничений, подчеркиванием классовых (возрастных, этнических, имущественных, ...) различий. А какие у господствующего класса методы? — экономическое и духовное насилие, подавление свободных влечений, промывание мозгов.
К сожалению, после этого прозрения испуганная собственной наглостью духовность выдыхается, прячется в традиционно скотские, мещанские лозунги (знакомые нам по европейской литературе, начиная, как минимум, с XII века):
|
Женщина должна оставаться женщиной. А девушка — девушкой. Для ее же счастья.
|
|
Какая чушь! Кто присвоил право решать, что есть счастье? Не говоря уже о том, что счастлив может быть только человек, и ограничение лишь одной из сторон — исток величайших трагедий.
|
... не кажется ли вам, товарищи женщины, что наше равноправие дошло до точки? Если женщина — личность, она не может вместить себя всю в прокрустово ложе семьи или быть лишь усладой мужчины. Это мы усвоили. Но вот то, что чем более женщина утверждает себя как личность, тем сильнее в ней должно проявляться только ей присущее женское "я", нами многими не ощущается.
|
|
О прокрустовом ложе семьи (трансформация брачного ложа) — очень хорошо! Ирония авторши неуместна. Хотя бы потому, что и мужчина может быть чьей-то усладой, — а "женское счастье" и материнство вполне возможны и вне семьи, и даже без отрыва от производства. Дальше — обычная путаница. Индивидуальность и личность — вовсе не противоположны мягкости и покорности (к чему мещанствующий интеллигент сводит женственность); личность человека — это и есть его "я", и никакого женского "я" в отрыве от личности никогда не было и быть не может. Одни женщины будут играть женщин — другим по душе маска мужественности, — а кому-то вообще не интересны половые игры и хочется предстать миру в облике пламенной обличительницы, богини, судьбы, — или мудрого советчика, или businesswoman. Утверждение личности — выход за рамки любых шаблонов, против тупой природы. Общество разума — вообще не нуждается ни в каком утверждении: можно просто быть собой, творить себя, — для себя, для мира в целом, а не вопреки неизвестно чему. Но в диком классовом обществе так не положено — и надо на все навесить пошлые ярлыки, ценники:
|
В это женское "я" входит многое, но главное все же, думается, — естественная, не рассуждающая радость материнства...
|
|
Одним махом свели человека к домашнему скоту, которому рассуждать не по ранжиру — и надо жевать что дают, и размножаться согласно разнарядке дежурного зоотехника. Знает ли мадам Руденко, что далеко не все рады беременности и родам? — и что для многих дети становятся бедой, неподъемными тяготами, обузой? Животные не радуются — они следуют велениям природы, без вариантов. То же самое — о матерях, загнанных в роддомы и семьи дикостями цивилизации. Тема радости материнства в репертуаре проповедников общественного неравенства с древнейших времен; это выражение собственнического отношения к детям, — компенсирующему в извращенной форме чувство собственной ущербности: да, я раб — но и меня есть рабы! меня давят и насилуют — но и могу измываться над беззащитными, упиваться мерзостями власти! Даже когда дети вырастают, вырываются на свободу, — подлый собственнический душок не выветривается, прячется под маской гордости за плоды своего труда. А труд не бывает "своим" — это всегда общественное производство, и всякое присвоение продукта есть акт насилия, инстинкт зверя.
|
Подражать во всем мужчине — новое рабство. Женщина должна оставаться женщиной. Никакой век, никакая формация, никакое равноправие не приведут к тому, что детей на свет будут производить мужчины. Женщина — это любовь. А любовь — это дети.
|
|
От нового рабства нас зовут не к свободе — а к старому рабству! Вместо того, чтобы не оставаться ни женщинами, ни мужчинами, — и стать просто людьми, в том числе и друг для друга, даже в постели, — подлая угодливость преданного раба, который именно в рабстве обретает себя, ублажает самое низменное в себе, радуется этому унижению и считает господ орудиями узаконенного традицией мазохизма.
Глупость воинствующего эмпирионатурализма в новое время как на ладони. Сегодня производить детей могут и мужчины; можно менять пол и в статусе добропорядочного семьянина. Лишь правовые рогатки не дают пока полностью освободить женщин от вынашивания плода — но богатые женщины уже могут переложить тяготы материнства на суррогатных матерей. Искусственно оплодотворение и контрацептивы отделяют секс от деторождения — а любовь от секса. Однополые и гибридные семьи — уже не новость. Люди могут любить друг друга без оглядки на биологические и социальные последствия — пол любящих и любовников не имеет ни малейшего значения. Как можно в этих условиях отождествлять женственность и любовь? Какое отношение интимность и духовное родство имеют к производству зверушки, которую обществу в целом предстоит превращать в рабочую силу, олицетворенный капитал, — или индивидуальность и личность?
* * *
Ленин всячески отделяет приватные беседы от публикаций — судить о его мнениях мы, большей частью, может только по мемуарам. Однако почему-то всегда оказывается, что у него есть определенная позиция по всему, что могло бы заинтересовать собеседника... Отчасти это проекция интересов вспоминающих — но мы не удивились бы, если бы узнали, что у Ленина есть мнение и по поводу порнографии — если бы нашлось, с кем побеседовать о развитии искусства...
* * *
В изложении З. Лилиной от 1920 года, история выглядит совсем не так, как ее привыкли воспринимать выпускники советских школ второй половины XX века. Про общественно экономические формации Лилина ничего не говорит — у нее все выстроено по непосредственной видимости, по внешнему облику культуры, в субъективном восприятии среднестатистического обывателя. Например, утверждается, что на смену средневековому феодализму приходит некое "мелкобуржуазное общество" (выражением которого якобы становится самодержавие), потом наступает торговая эпоха, потом приходи промышленный капитализм... Традиция явно списана с западных учебников: в той же буржуазной манере, не предполагается никаких всеобщих законов — и все развивается как бы само собой, следуя эгоистическим порывам отдельных персонажей, алчность и невоспитанность которых разрушили "коммунистическую" общинность и поработили широкие народные массы. При этом возникновение классов Лилина относит к эпохе капитализма — а до того, вроде бы, никаких классов и не было, а были всяческие общины, — и, конечно же, семья.
Если не вставать на рога и не отвергать с порога буржуазные измышлизмы, — лилинский метод вполне совместима с ленинским. Достаточно заметить, что общественно-экономические формации — крупномасштабные единицы, внутри которых, разумеется, есть место для исторического развития; эта иерархия (как и любые другие) допускает разные обращения — различные расстановки акцентов — так что в каких-то контекстах субъективная сторона дела выше экономики, и можно встраивать исторические цепочки по самым разным критериям. Главное при этом — не абсолютизировать ни одно из воззрений, честно оговаривать область применимости. Но в классовом мире подобная добросовестность не ко двору — и каждый автор выставляет свою историю единственно правильной и записывает прочих в диссиденты и оппоненты.
Один из корней этой классовой иллюзии — метафизическое представление о природе как данности — которую мы можем лишь изучать, дабы выяснить, как обстоят дела "на самом деле". Отсюда пиетет перед наукой — и мифы о высшей ценности знания. Но почему, собственно, отношение человека к природе должно ограничиваться лишь изучением? Почему мы не можем использовать природу как источник художественного вдохновения? Что мешает нам переделывать природу, следуя собственным интересам? Почему бы, наконец, не выдумать "альтернативную" природу? — и прикинуть, как было бы, если бы... Все эти (и многие другие) природы — вполне реальны; они могут перетекать одна в другую, пропитываться друг другом.
Так же и в истории: экономика упорядочивает эпохи по способам производства (отсюда идея общественно-экономических формаций); развитие духовности проходит свои этапы (назовем из культурно-историческими формациями); каждая конкретная историческая эпоха есть единство того и другого — и комбинации возможны самые неожиданные. То есть, внутренняя логика в истории всегда есть — но соединение разных логик рождает историческое разнообразие, богатство (иерархичность) культуры: любая возможность измыслить что-нибудь якобы произвольное — не случайна, исторически необходима.
При таком подходе мы уже не рискуем сделать царя буржуазным лидером — но и не исключаем торговых империй на фоне разных экономик (рабовладельческой, феодальной, капиталистической...), в тесном взаимодействии разных общественных структур.
* * *
Маркс, конспект книги Милля [42, 23–24]:
|
Обмен — как человеческой деятельностью внутри самого производства, так и человеческими продуктами — равнозначен родовой деятельности и родовому духу, действительным, осознанным и истинным бытием которых является общественная деятельность и общественное наслаждение.
|
|
Речь о том, что в рамках политической экономии, ограничивающей человеческую деятельность исключительно сферой обмена, человек не может преодолеть собственную животность — он лишь представитель рода, не более. За этим скрывается истинное, общественное бытие человека — когда и производство, и потребление ("наслаждение") непосредственно воспринимаются как общественные, и уже не нужно утверждать эту человеческую (разумную) сущность, искусственно (внешним образом) объединяя разрозненных индивидов в единый организм (который еще не стал коллективным субъектом).
|
Так как человеческая сущность является истинной общественной связью людей, то люди в процессе деятельного осуществления своей сущности творят, производят человеческую общественную связь, общественную сущность, которая не есть некая абстрактно-всеобщая сила, противостоящая отдельному индивиду, а является сущностью каждого отдельного индивида, его собственной деятельностью, его собственной жизнью, его собственным наслаждением, его собствен-ным богатством.
|
|
Поэтому высокопарные призывы трудиться во благо ближнего, класть жизнь на алтарь отечества, отодвигая собственные интересы в тень, — совершено бессмысленны и вредны: фактическая частичность индивида тем самым дополняется столь же частичным сознанием, — то есть, по сути, отказом от сознания, превращением в животное или вещь. Освобождение человека связано с таким изменением действительной жизни, когда собственная жизнь каждого станет выражением его общественной сущности, — когда индивид (родовое существо) превращается в индивидуальность (существо разумное).
|
От человека не зависит, быть или не быть этой общественной связи; но до тех пор, пока человек не признает себя в качестве человека и поэтому не организует мир по-человечески, эта общественная связь выступает в форме отчуждения. Ибо субъект этой общественной связи, человек, есть отчужденное от самого себя существо. Люди — не в абстракции, а в качестве действительных, живых, особенных индивидов — суть это сообщество. Каковы индивиды, такова и сама эта общественная связь.
|
|
Вот ключ к человеческой разумности! Человек "в качестве человека" не просто принадлежит миру — а сознательно творит его. Это уже не просто "родовая жизнь" — это всеобщность, универсальность, право переделывать природу (в том числе и свою собственную) переустраивать ее на разумных началах, как всеобщую связь и единство. Пока нет такой возможности — человек отчужден от мира, и от самого себя как воплощенной способности мира становиться другим. В не доросшем до разумности обществе действуют дикие ("естественные") законы; люди противопоставлены друг другу, и
|
общество этого отчужденного человека есть карикатура на его действительную общественную связь
|
|
Чтобы продолжать себя, приходится прогибаться под чуждые разуму обстоятельства, служить кому-то или чему-то, ограничивая свободу творчества, подчиняя его не внутреннему порыву (тождественному движению мира в целом), а условностям мнимо общественного бытия, неприкосновенности границ. Человек этого общества чувствует, что
|
его оторванность от другого человека оказывается его истинным бытием; что его жизнь оказывается принесением в жертву его жизни, осуществление его сущности оказывается недействительностью его жизни, его производство — производством его небытия, его власть над предметом оказывается властью предмета над ним, а сам он, властелин своего творения, оказывается рабом этого творения.
|
|
Здесь все наизнанку: человеческое воплощается в бесчеловечных формах, тождество становится противоположностью, животная, родовая жизнь кажется истинно человеческой... Объективно общественная сущность всякой деятельности предстает частным делом каждого, взаимодействие и взаимопомощь сводятся к товарообмену. Такая культура неизбежно сводится к одной из своих сторон, к экономической культуре — и любые общественные науки становятся ответвлениями политической экономии.
|
Политическая экономия рассматривает общественную связь людей, или их деятельно осуществляющуюся человеческую сущность, их взаимное дополнение друг друга в родовой жизни, в истинно человеческой жизни в форме обмена и торговли.
Политическая экономия — как и действительное движение — исходит из отношения человека к человеку как отношения частного собственника к частному собственнику.
|
|
Философия, принимающая этот факт жизни классового общества за краеугольный камень философствования как такового — это вульгарный материализм. Да, движение духа в условиях рынка подчинено логике материального производства; но это не истинная суть духовности (разумного отношения к миру), а ее извращенная форма, которую свержение власти капитала призвано устранить, восстанавливая тем самым внутреннее единство субъекта и снимая внешнее различие личности и коллектива, восстанавливая равенство человека миру.
* * *
Н. Федоров называет свою философию "всеобщим синтезом" — но до универсальности ему далеко. Капитализм — общество всеобщего отчуждения, он нашпигован противоположностями. Но разум не просто устраняет один из полюсов (которые вообще невозможны друг без друга и определимы только через взаимоотрицание) — разум должен выявить принцип разделения и предложить иной подход, устраняющий саму необходимость столкновения. Противоречие не заметают под ковер — а добиваются логического разрешения; противоположности снимают, а не подчиняют одну другой. Федоров абсолютизирует жизнь:
|
...смерть есть произведение силы неразумной.
|
|
Чепуха! Жизнь и смерть — стороны одного и того же; неразумность одного предполагает в той же мере неразумность другого. Кто хочет разумно жить — должен сделать разумной и смерть, сделать ее обычным инструментом преобразования мира, в дополнение ко всем остальным. Но человек сам производит орудия труда — поэтому его жизнь и смерть не остаются чисто природными актами, а становятся явлениями культуры. Жизнь сама по себе нам совершенно ни к чему — нам важно жить культурно, и столь же культурно умирать. Недостаточно вытащить на свет тонкую диалектику связи поколений:
|
...рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, т. е. лишение отцов жизни, откуда и вытекает долг воскрешения отцов, который сынам дает бессмертие.
|
|
Да, рождение одного есть превращение жизни одного в жизнь кого-то другого, и тем самым подобно смерти. Но поделитесь идеей с другим — и та же идея будет у обоих, станет вдвое мощней. Точно так же, отдавая частицу себя следующему поколению (безотносительно к животному родству), человек остается жить — более того, его жизнь становится полнее, значительнее. Предки навсегда остаются жить в потомках — воскрешать их вовсе не требуется! Каждое поколение — инобытие предыдущих. Разум изначально бессмертен.
Точно так же, чисто буржуазная абсолютизация противоположности теории и практики, превращение ее в противостояние классов, ставит задачу преодоления розни; здесь Федоров пальму первенства отдает народной сметке — и требует, чтобы наука обратилась в насущным потребностям людей вместо обслуживания буржуйских прихотей. Однако положение интеллигента в классовом обществе определяется не личными предпочтениями, а господствующим способом производства, и невозможно изменить положение вещей, не меняя экономической основы — практики. Но Федоров, подобно прочим утопистам, уповает лишь на теорию, на убеждение и разъяснение:
|
Объединение должно начаться с интеллигенции; объединенная же в качестве воспитательной силы интеллигенция соединит все народы в деле управления слепою, неразумною природою, т.е. обратит их, все народы, в естествоиспытательную силу, и таким образом чрез воспитательную силу интеллигенции все обратятся в естествоиспытателей, разум народный, практический объединится, придет в единство с разумом интеллигенции, ученых, т. е. с разумом теоретическим
|
|
Это типичный идеализм. Здесь он выворачивает собственную логику наизнанку: фантазии вместо дела.
Разумное решение — отодвинуть в сторону вопросы теории и практики, заняться прежде всего постановкой задачи: что именно мы хотим в итоге получить? В зависимости от этого мы будем привлекать то одно, то другое, — в необходимых для дела сочетаниях.
* * *
Жанна Бурен, Премудрая Элоиза:
|
Помнишь ли ты наши порывы и охвативший меня экстаз? Нет, нет, мы не опустились до уровня животных, но поднялись к радостям выше нашего удела. Позднее ты обвинял себя в похоти. Я отвергаю это обвинение. Нежность и внимание, с которыми ты приобщил меня к любви, уважение, которое ты никогда не переставал выказывать мне в самые безумные мгновения нашего исступления, — они свидетельствуют в пользу нашей страсти.
|
|
Здесь суть любви: не опускаться до животных — и превзойти себя. Мы используем тела — ради разума. Страсть — становится уважением; уважение — невозможно без страсти. Человек не избегает ни чувств, ни рассудка — это его орудия на пути к духовности. Да, потом может быть больно; но отказаться от боли — предать любовь.
* * *
Право не интересуется движениями духа. Его дело — регулировать, кто кому и сколько должен. Поэтому книжки про кодекс, по большей части, трактуют семейные и внесемейные дела с чисто практической стороны: какие документы подбирать, в какую инстанцию обратиться. Пока не возникает ничего криминального — вроде бы, и вмешиваться незачем. Но для широкой публики важна не только буква закона, но и его дух; следовать тому, что не по душе, никакая сила не заставит. Поэтому популярная юриспруденция обращается время от времени к вопросам, в ее компетенцию никак не впадающим. Поскольку же подходящего инструментария у правоведов нет — трактуют все это исключительно с позиций синкретического права, морали: здесь таки имеются какие ни на есть законы — и можно рассуждать в формах привычного (казенного) языка. Типичный пример — книжка Закон и долг некоего А. Тарасова (М. 1981). Наряду со всем прочим — особый раздел с многообещающим названием: Закон и любовь.
Понятно, что ни о чем кроме семьи и речи быть не может: помыслить законодательство о свободной (не связанной семейными узами) любви автор никак не может. Но факты — упрямая вещь: на каждом шагу разводы, или (о ужас!) разбазаривание семейных фондов на левые приключения... Брак, как выясняется, — вещь хрупкая, а привлечь за неосторожное обращение власть не может: нет в кодексе подходящей статьи. Религию от советской власти якобы отделили — остается взывать к порядочности и ответственности граждан, вменять им в гражданский (и "нравственный") долг сохранение санкционированной законом формы сожительства.
|
От кого и от чего надо защищать мужчину и женщину, вступивших в брак, если прочность их семьи зависит прежде всего от их чувств? Ни суд, ни милиция помочь сохранить любовь, увы, не в силах. Ключ к прочной семье, таким образом, оказывается спрятанным в глубинах интимной, душевно-нравственной сферы.
|
|
С логикой у законозащитников, как водится, нелады. Какое отношение любовь имеет к прочности семьи — ни одного намека. Почему нельзя долгие годы жить вместе безотносительно к интиму? Такие случаи в мировой практике не редкость. Если по каким-то причинам выгоднее сохранить законный брак — оба супруга могут сколько угодно любить на стороне (не только платонически, но и плотоядно), а семья от этого оказывается только прочнее. Напротив, если экономика не позволяет заключить (или сохранить) формально-юридический союз — никакая страсть не спасет, и на этот счет тоже примеров хоть отбавляй. Так устроено классовое общество — и советское государство в частности. Для бесклассового человека вопроса вообще нет: никакие формальные узы ему не нужны, и одна любовь никак не мешает другой.
Далее следует длинное рассуждение о том, почему государство таки вмешивается в семейные дела (подразумевая, что оно таким образом регулирует и любовь). В отличие от большинства буржуазных спецов, испорченный (выданным за марксизм) вульгарным экономизмом автор режет правду-матку, выбалтывает сокровенное. Государству, видите ли, нужна рабочая сила — а воспроизводство человека пока происходит в семье, поэтому государство регулирует эти отношения, чтобы не остаться без работников. С другой стороны общество еще не в силах полностью (или хотя бы в сколько-нибудь значительной мере) взять на себя как материальное содержание, так и образование (обучение и воспитание) нового поколения — а потому перекладывает все это на семью. Таким образом, с точки зрения социалистического государства, семья есть экономическая ячейка (эдакий мини-заводик) для (неизбежно кустарного) воспроизводства рабочей силы. Большинство положений Кодекса о браке и семье РСФСР направлены прежде всего на защиту "интересов детей": это прямое вымогательство родительских денег и времени (которое тоже деньги) на общественные нужды — на сборку и доведение до рабочей кондиции органических тел. Вот это силовое давление и обозначается словом "долг". Следовательно
|
в сфере семейных отношений государственный закон тесно переплетается с законом нравственным.
|
|
Как мы знаем из Анти-Дюринга, насилие — категория не экономическая. Это отношение между людьми, которое становится возможным на определенном этапе развития экономики — но само по себе совершенно не материально. Однако полагать, что все идеальное имеет отношение к духовному общению (любви) — верх вульгарности. Тем не менее, поскольку мы говорим о воспроизводстве производственных отношений (духовном производстве) — ссылка на нравственность совершенно уместна, с маленькой поправкой: речь о безнравственности всякого насилия — тогда как нравственность (в отличие от морали) есть выражение человеческой свободы, и никаких законов не признает. Нравственный человек — никому ничего не должен; он действует как разумное существо, вполне способное самостоятельно разобраться, что человечеству важнее на данный момент.
Очевидно, достаточно развитая экономика может обойтись без кустарей, перевести производство рабочей силы на индустриальные рельсы — на всех этапах, от проектирования и планирования до генной комбинаторики, инкубации, выхаживания и обеспечения условий для непрерывного индивидуализированного образования, не ограниченного какими-либо формальными этапами. Но семья-то нужна как раз там, где экономика недоразвита — так что приходится задействовать насилие, административный ресурс.
|
Поэтому подлинную прочность семьи долг все-таки способен гарантировать несравненно в большей мере, чем закон.
|
|
Долг перед кем? — перед любящим человеком? Отнюдь. И даже не перед обществом — а перед государством, эксплуатирующим граждан (то есть заставляющим их работать даром) ради получения лишней пары рабочих рук (в комплекте с прочими органами). Долг — понятие сугубо экономическое, всегда и везде (а в условиях глобального торжества капитализма — сугубо коммерческое, рыночное). Но система классового насилия основана на том, что человек вдруг оказывается должен даже там, где ему, в общем-то, ничего и не давали: откровенный грабеж. После этого ковыряться в "глубинах интимной, душевно-нравственной сферы" — безнравственно. И тем более использовать любовь в качестве стрекала — или замка на двери:
|
Семья — это точка, где экономика, мораль, этика, долг, любовь, физиология, привычки, характеры, темпераменты, даже политика (мировоззрение) переплетаются в единый клубок. Какая из ниточек в нем самая главная? Наверное, все-таки любовь.
|
|
Тут, правда, опять логическая неувязка. Семья штампует детей. Тогда как любовь — отношение двоих, которым нет дела до каких-то сторонних производств: они производят только друг друга, исключительно духовным образом (хотя и посредством какой-либо телесности). Надо опять надавить, принудить граждан совокупляться продуктивно — после чего с удовлетворением констатировать:
|
Создается семья у нас, как правило, по любви.
|
|
Это примерно как заставить юного виртуоза играть на скрипке за деньги в кабаке, якобы из великой любви к музыке. Нет, конечно, большие музыканты (а также поэты, художники и прочие возвышенные души) всегда боролись за хлебные места, подавали прошения во все инстанции, участвовали в конкурсах на замещение... И даже посвящали свои творения очередному меценату. Только любви во всем этом нет ни на копеечку: любовь к деньгам совершенно равнодушна.
Любовь может сопутствовать браку (и чему угодно) — но только сопутствовать. Производство (семью) надо возводить на прочном материальном фундаменте. Тарасов (надо отдать ему должное) это печенкой чует — и патетически восклицает:
|
Но держится ли она на любви?
|
|
Конечно же нет!
|
Экономические соображения сказываются в любой семье.
|
|
Но финансировать кустарщину из разворованного номенклатурой бюджета — нет денег:
|
В социалистическом обществе экономику на первое место никак не поставишь.
|
|
Якобы потому, что женщина стала экономически независимой. Ой-ли? А налог на бездетность, льготы семейным, право на жилплощадь (или хотя бы постановку в очередь), ограничения на доступ к должностям и на загран? Все эти (и другие) на первый (только на первый) взгляд мелочи пронизывают жизнь советских людей, заставляют усердно заниматься экономической арифметикой. Расчет по-прежнему во главе (семейного) угла — хотя, разумеется, формы разные, их много. Но Тарасов выше личных интересов трудового народа! Государственные надобности (прямо по Гегелю!) главнее всего:
|
В нашей семье на первое место, без сомнения, выдвинулись дети.
|
|
И сотворил бог кроликов; самца и самку сотворил их. И благословил их бог, и сказал им бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю... Дозволенный секс — великое благо; но прежде всего — это ваш долг.
|
Как видим уже сама природа любви исключает возможность полной свободы, полной независимости любящих. Влюбляясь, человек теряет часть своей свободы и одновременно (при взаимной любви) берет на себя часть свободы любимого человека. Тем более, если за этим следует брак.
|
|
Если не сделать поправку на обычную для буржуев подмену понятий — выглядит страшно. Любовь — принципиально неприродное явление, и говорить о "природе" любви — значит жестоко насиловать ее в самой извращенной форме. Любовь — это и есть выражение всеобъемлющей свободы (взятой в аспекте человеческих отношений), и само выражение "по любви" в языке означает: без малейшего принуждения, свободно! Усматривать здесь неполноту может лишь морально искалеченный. Зависеть друг от друга могут только враги; где двое сливаются в одно — сами понятия зависимости или независимости совершенно неуместны. В бутерброде — масло зависит от хлеба, или наоборот? Как можно потерять часть свободы, когда сама идея свободы относится к целому и предполагает целостность? Тут нельзя сослаться на то, что один человек относится к другому, как к себе самому — это библейская мораль! Свобода не бывает "твоей" и "моей" — она всегда наша, человеческая. Какое отношение к свободе может иметь чисто формальный акт регистрации гражданского состояния? — ноль смысла. И если автор опять впадает в патетику:
|
Снова и снова хочется повторять: семья — производное от любви.
|
|
ответ один: хочется — повторяйте! А мы-то при чем?
Вообще, Тарасов настолько великодушен, что готов даже допустить добрачные эксперименты — в качестве своего рода преднастройки и общего тренинга. Однако государственный интерес не упускать! Долг есть долг — и тестировать профпригодность надо грамотно.
|
Экзамен прежде всего должны устраивать девушки. Они в несравненно большей мере несут на себе все последствия ошибок.
|
|
Можно было бы подумать, что прекрасный пол обеспокоен половым подбором, гармоничной сочетаемостью будущих супругов на почве производственной деятельности. Ан нет! Оказывается, ошибка — это не дурной партнер (от которого придется лечиться разводом), а появление внебрачного ребенка. Тут уже возникают сомнения в профпригодности нашего юриста: он разве не знает, что по закону дети, рожденные вне семьи обладают теми же правами, что и семейные? Конечно знает! Только права — требуют материального обеспечения, а доплачивать матери-одиночке из казны — так и воровать будет нечего. Даже если отца удается прижучить и призвать к ответу — алиментов не хватает; опять же, и в плане воспитания прорехи — моральный перекос. То есть, рабочая сила получается с гнильцой — а это не по понятиям.
Поэтому с физиологией до свадьбы — лучше таки притормозить. Чтобы без ошибок. Тренируйтесь пока чисто теоретически — любите не кого-то там, а возвышенный идеал будущего супруга. Воздержание стимулирует влечение — разумеется, не к постели, а к браку! Слишком много будешь знать — скоро состаришься! Прекрасные дамы, вам оно надо? Практикуйте пока боваризм — мечтайте о необыкновенностях. Техника секса — дело наживное.
|
А главная стратегия связана с тем, что любовь поднимает сексуальные радости на такую высоту, которая недоступна никаким знаниям. В то же время познание простых физиологических аксиом способно навсегда оттолкнуть любящих супругов, убить самые возвышенные чувства. В итоге истинное родство душ умрет из-за пустяка, из-за сексуальной безграмотности.
|
|
Чем кончила флоберовская мадам — общеизвестно. Любовь, конечно расцвечивает секс самым невероятным образом. Собственно, она и делает его радостью. Но сексуальная безграмотность — далеко не пустяк. Именно она, а не "познание простых физиологических аксиом", чаще всего разбивает идеалистические видения — и вполне реальные семьи. Неужели хамский секс с мужем способен перевесить восторг от умелого любовника? Речь, конечно же, не о физиологии, а о духовном потенциале культурно заряженной эротики. Во-вторых, если мужчина неприятен женщине (или наоборот) в каких-то проявлениях — это свидетельствует об отсутствии того, что нормальные люди называют любовью. Любящие просто не будут заниматься тем, что не вытекает из их единства; они не делают уступок друг другу — они едины и в своем выборе, вплоть до физиологических позывов. Возможно, буржуазному (и советскому) юристу такая любовь — худший кошмар. Заставить любящих размножаться вопреки любви — никакой возможности. Но не лучше ли вместо унижения любви в семейном рабстве, — возвышать до нее недоразвитую экономику? Чтобы уж точно не ошибаться — ни в экономике, ни в любви.
* * *
Anatole France, M. Bergeret à Paris :
|
Un jour viendra où le patron, s'élevant en beauté morale, deviendra un ouvrier parmi les ouvriers affranchis, où il n'y aura plus de salaire, mais échange de biens.
Si même cette république ne devais jamais exister, je me féliciterais d'en avoir caressé l'idée. Il est permis de bâtir en Utopie... Les rêves des philosophes ont de tout temps suscité les hommes d'action qui se sont mis à l'œuvre pour les réaliser. Notre pensée crée l'avenir.
|
|
Вот об этом мы все время и говорим... Даже утопическая мечта — все-таки мечта, и она не исчезнет бесследно. Сберечь хотя бы умение мечтать — не так уж мало. Особенно в черные времена, когда никаких перспектив на повестке дня. И даже мечта о любви или о свободе — это уже любовь и свобода. Жизнь может сложиться как угодно — а они были, и они останутся. Но хотелось бы сделать еще один шаг: понять, в чем утопичность утопий — и сделать мечту хоть чуточку разумнее.
* * *
Фрейдовские основные инстинкты (любовь и смерть) — старинный предрассудок, и никаких клинических откровений за этим не стоит. Тема стала популярны в раннеренессансную эпоху, потом часто мелькала во французской поэзии XVI века, — и волна докатилась до европейского романтизма, от которого до Фрейда рукой подать. Конечно, мотив известен и раньше (вспомним хотя бы о похождениях шумерской богини Инанны). По сути, так в народном сознании выразилась неразумность классовой экономики (и классового общественного устройства). Что для души — то недоступно, благородные порывы — верная гибель. Есть, однако, упрямый факт: человечество не только преумножилось — но и учится преодолевать рецидивы животности, действовать не рационально (методом умерщвления плоти) — а по наитию, вопреки здравому смыслу и трезвому расчету (против чего, помнится, энергично возражал политик Талейран). Трудно сказать, в какой мере этот видимый рост сопряжен с ростом духовности, — но развитие искусства, науки и философии во многом стало выражением победы духа над экономикой, и любовь ускользает от смерти. Умершие остаются с нами — мы по-прежнему их любим, а они любят нас, и помогают на жизненном пути.
* * *
Тысячелетия классовой истории приучили народ (как бедняков, так и элиту) к жизни в государстве — к необходимости держать под контролем и управлять. Тем более не может отрешиться от стереотипа партийный работник — ибо партийность невозможна без идеи власти. Вот, например, одна из самых революционных статей Ленина: Удержат ли большевики государственную власть; массы призывают заняться устройством их жизни, самостоятельно организовать работу и быт на новых началах, — это очень сильно! Однако уже в названии — гнилость: не о власти надо думать, а о людях; не о государстве, а о его гибели. Великолепный стилист мог бы подобрать точные формулы — но не делает этого. Почему? Потому что сам не замечает собственной ограниченности, из-за которой борьба против капитала вырождается в свою противоположность, в утверждение его господства. Знаменитая фраза, которую перевирают и враги, и друзья [34, 315]:
|
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
|
|
В контексте — очень точно и правильно. Но по непосредственному содержанию — это курс на сохранение государства как единственно возможной формы общественного бытия: речь не о том, чтобы вытеснять их жизни противопоставление власти и граждан, — а всего лишь о всеобуче, теоретически позволяющем каждому превратиться в чиновника. Оказывается, цитату не так уж сильно переврали: даже если сегодня кухарка не может взять в руки бразды правления — то уж завра, чуток подучившись, она всенепременно до государственного мышления дорастет! А дальше? Торжество демократии, право каждого поездить какое-то время на чужом горбу. Как легко догадаться, право так и останется в теории, а править будут профессиональные (богоизбранные) наездники. А кухарке — кухаркино... Что, между прочим, многих очень даже устраивает: незатейливо ковыряться в своем углу — и голова не болит, и совесть чиста; а коли прижмет — всегда есть кого бранить.
Чего хотелось бы? Чтобы обучались массы не управленческому ремеслу — а разумному отношению к миру: важно не выстроить властную вертикаль, а делать общее дело — когда никто никем вообще не управляет, а все вместе прикидывают, как для этого организоваться здесь и сейчас (а завтра, возможно, расстановка окажется иной). Значит, не народ надо приучать командовать — а менять способ производства таким образом, чтобы командовать было ни к чему. Чтобы кухарка думала, как лучше кухню поставить, — но могла обратиться за помощью к тем, кто может помочь, — чтобы всем было полезно и хорошо. Тогда людям будет интересно приглядеться к разным ремеслам — иметь общее представление, или научиться по склонности. Без чиновников можно обойтись — когда руки не кривые, да своя голова на плечах.
* * *
Обыватель (даже с высшим филологическим образованием) склонен рисовать себе поэтов эдакими записными гуляками, эротоманами. Дескать, все то они опошлят... Даже невинность природы превращается у них в игривые намеки — что уж говорить о бесчисленных посланиях дамам сердца! Тезис подтверждают задокументированными фактами амурных похождений, часто весьма далеких от законопослушной морали.
Как водится, французам и карты в постель. Вот, например, Альфред Мюссе — совсем себя загонял себя в молодости, и это ему аукнулось еще до полтинника. Один только бурный роман с Жорж Санд чего стоит! Плюс приключения до и после. Вот и в стихах — первое приобщение к музе предстает кровосмесительно-эротическим опытом ("любовница и сестра"), который отнюдь не утратил остроты после прочих амуров:
Mon sein est inquiet; la volupté l'oppresse,
Et les vents altérés m'ont mis la lèvre en feu.
O paresseux enfant, regarde, je suis belle.
Notre premier baiser, ne t'en souviens-tu pas,
Quand je te vis si pâle au toucher de mon aile,
Et que, les yeux en pleurs, tu tombas dans mes bras?
Ah! je t'ai consolé d'une amère souffrance!
Hélas! bien jeune encor, tu te mourais d'amour.
Console-moi ce soir, je me meurs d'espérance;
J'ai besoin de prier pour vivre jusqu'au jour.
|
|
Другой великий романтик, Виктор Гюго, разбрасываться не стал, остался верен (в конце концов подружившимся) жене и любовнице, — и прожил значительно дольше. Соответственно, его эротика перерастает юношеский вуайеризм (как в современной опере: sous sa robe de gitane) и приобретает грандиозность, почти вселенскость:
L'océan resplendit sous sa vaste nuée.
L'onde, de son combat sans fin exténuée,
S'assoupit, et, laissant l'écueil se reposer,
Fait de toute la rive un immense baiser.
On dirait qu'en tous lieux, en même temps, la vie
Dissout le mal, le deuil, l'hiver, la nuit, l'envie,
Et que le mort couché dit au vivant debout :
Aime ! et qu'une âme obscure, épanouie en tout,
Avance doucement sa bouche vers nos lèvres.
L'être, éteignant dans l'ombre et l'extase ses fièvres,
Ouvrant ses flancs, ses reins, ses yeux, ses cœurs épars,
Dans ses pores profonds reçoit de toutes parts
La pénétration de la sève sacrée.
|
|
Казалось бы: диагноз ясен. Сколько их потом было — преемников и подражателей, убийц и самоубийц... Вплоть до суперсовременного Мерайли, эпигонствующего по поводу Маяковского вместе с Гюго:
Октябрь,
по деревьям и кустам
развесив фальшивое
золото,
запихивает
солнечный пятак
в красную щель горизонта.
|
|
В общем, теплая команда. В этом контексте — если даже у кого-то не замечено особых доблестей на постельном поприще, они молчаливо предполагаются, а дефицит информации легко восполнить вульгарными слухами.
Что, не так? Ладно, пусть будет. Но коли уж взялись являть себя зерцалом — давайте рубить всю правду, а не пару одиноких пылинок, обнаружив которые вы готовы равнять поэтов с пылью. И начать с того, что (при любом раскладе по биографии) стихи никогда не бывают биографичны: в них не житейский, а человеческий опыт. Опыт духа, а не тела. Поэтому любое сходство с грубо осязаемой действительностью следует считать случайным совпадением, не более. Как и все остальное в стихах, эротика весьма условна — это не картина, а оправа, — художественный прием, столь же формальный, как буквы, которыми стихи записаны, — или как восклицательный знак в конце фразы, призванный привлечь внимание, обозначить настроение — а вовсе не всамделишные возгласы.
Далее, кто сказал, что человеческие отношения обязаны покорно уподобиться нечеловеческим условиям? Буржуазный брак оскорбителен для любви — и она ищет иного самовыражения, иных связей. Но точно так же бездуховность разврата любовь будет компенсировать негой супружества. В этом ее свобода — и не филистеру ее судить.
Поэт — не имя, не сборник анекдотов. Это его стихи. Если дела тел помогают делать искусство — они вполне разумны, и необходимы человечеству. Если поэт разразится чем-нибудь великим после бурной ночи с чьей-то женой — эта женщина становится полноправным соавтором, соучастником гениальности. В этом суть древнего мифа о музах, получившего слишком упрощенное (рыночное) толкование при капитализме — избавляться надо и от того, и от другого.
И не надо нам про утилитарное отношение к женщине! Во-первых, в (развратные) поэты идут не только мужчины (вспомним хотя бы Марину Цветаеву). Во-вторых, именно буржуазный брак — апофеоз утилитарности: он загоняет женщину в семейное рабство, душит ее человеческие стремления животностью пошлого быта — делает фабрикой наследников.
Глупо отрицать, что какие-то из поэтов (тот же Мюссе) искренне полагали, будто женщина нужна, чтобы нести вдохновение истинному творцу; в античности женщин вообще не считали за людей — и от этого предрассудка многие не избавились до сих пор. Однако было бы верхом примитивизма считать многочисленных "утешительниц" (consolatrices) Мюссе лишь орудиями: у них своя гордость, и духовность, и любовь. Любовницы поэтов, художников, скульпторов (а также политиков) — зачастую только через эту связь могли приобщиться к искусству, науке, философии (или политике), потому что равноправие женщин и в наши дни остается — даже в очень развитых странах — больше благим пожеланием, чем осуществленной мечтой. С другой стороны, кому-то вовсе не надо записываться в литераторы — им достаточно другого призвания, умения любить — которое выше всех искусств вместе взятых. В конце концов, нельзя огульно записывать всех проституток в жертвы: в чисто экономическом плане — это, может быть, и верно; но кое-кто из них вкладывает в ремесло совсем другой смысл — и даже переживает свою продажность как освобождение.
* * *
Для Лилиной, слова "плоть от плоти и кровь от крови" — хранят древний мистический смысл: она не может себе представить, чтобы одно живое существо посягнуло на другое, связанное с ним магией рождения:
|
До тех пор, пока общество состояло исключительно из кровных родственников, — не могло быть и речи об эксплуатации одною частью или одним членом рода — старшиною-патриархом остальных членов общества...
Ни коммунистическая семья, ни патриархальное общество не знают наемного труда, следовательно и эксплуатации. Все члены коммунистического общества — производители для всего общества. Весь продукт — общественная собственность, которая распределяется между членами общества по потребностям.
|
|
И позже:
|
Семья ремесленника состояла обычно не только из жены и детей ремесленника но и из пришлых учеников и подмастерьев. Хотя ремесленник и пользуется трудом подмастерья и учеников, хотя он из эксплуатирует, но он, принимая их в лоно своей семьи, сажал их за общий с собою стол, относился к ним как к равным.
|
|
А потом грянула "эпоха торгового капитала" (с царем-батюшкой во главе) — и все изменилось:
|
Много работы и мало еды дает теперь ремесленник своим сотрудникам. Он их снимает со своего стола, он из исключает из среды своей семьи. И подмастерья и ученики для него теперь живые орудия производства. Нет и в помине более семейно-патриархальных отношений между эксплуататором-хозяином и его наемными работниками.
|
|
То есть, как только про семью — подразумевается теплое чувство и взаимное участие... Коммунистическое по-лилински — это семейное.
В этом она, конечно же, не одинока. Обожествление родства — пережиток первобытности; но сама возможность обожествления говорит о распаде первобытности, о классовой расстановке общественных приоритетов. Уничтожение классов — предполагает устранения любых формальных сообществ, коллективов, — то есть, прямое отношение человека к обществу в целом; это делает невозможным какое-либо сопоставление одних с другими, а значит, и возможность собственности (в какой угодно форме).
Чтобы распределить продукт — его надо сначала отнять. Зачем особые инструменты при непосредственной доступности предметов потребления? Общественная собственность — тоже собственность.
Идеализация семейности ведет к очевидным натяжкам. Так, большая семья, состоящая из кровных родственников и рабов, известна в ранней античности (и латинское familia означает именно эту семью). Но рабов за господский стол никто не приглашал. Однако если таки усадить всех за один стол — они вовсе не станут от этого равными: даже среди рыцарей круглого стола король Артур главнее. На пирах русских князей сидящих за столом обносили питьем и яствами по старшинству; и в наше время рассадку на официальных банкетах долго согласуют со всеми инстанциями, с учетом разных интересов. Заметим, что жены крестьян и ремесленников зачастую не сидели за столом с мужчинами: их место на кухне, еду подносить да посуду убирать... Кровное родство уступает место общественному институту — места раздают по заслугам, а не по родству.
Внутри семьи никакого равенства никогда и не предполагалось. Более того, возникновение семьи как раз и связано с обособлением формального главы, по отношению к которому родственники, рабы, наемные слуги, наложницы, гости и прихлебатели выстраиваются в подвижную иерархию, дерутся за внимание и благосклонность. Надо быть полным идиотом, чтобы принимать внешние знаки почтения за реальную расстановку сил. Так, показное уважение к женщине в ряде культур сочетается с варварской эксплуатацией женщин и культом насилия в семье — в самых изуверских формах: если вдова не хочет отправиться за покойным мужем на костер — ей помогут сделать правильный выбор...
Сваливать в одну кучу общественное устройство и биологию тем более странно, если учесть, что и животных не особо заботит кровное родство или принадлежность виду. Медведь (а иногда и медведица) может запросто сожрать своих детенышей; собаки стаей растерзывают на куски самую слабую собачонку. Этологические иерархии довольно сложны — и не предполагают никаких родственных предпочтений.
Пренебрежение теорией и методологией размывает эмпирическую базу лилинских выводов — и ее призыв к неокоммунистической семейственности в будущем подвисает в зловещей пустоте. Но и в этом она не одинока: марксистско-ленинские призывы вернуться в семейные пещеры — не менее вульгарны, а буржуазные отрицатели семьи ничего не предлагают взамен кроме очередного пересмотра терминов родства.
* * *
Ленин [34, 332]:
|
Идеи становятся силой, когда они овладевают массами.
|
|
Аллюзия на раннего Маркса [1, 422]:
|
Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами.
|
|
Другой контекст, переосмысление. Однако лейтмотив один: овладеть. Не убедить, не показать перспективы — а повелевать. Въевшаяся в подсознание буржуазность. Партийность: не в философии, а вместо философии.
Идеи не должны становиться силой. Они лишь придают сил людям. Не идея овладевает массами (как одержимость, массовое сумасшествие), а массы овладевают идеей — делают ее орудием труда.
* * *
Еще одна характерная черта наивной историографии — чрезмерный пиетет по отношению к религии. Для Лилиной церковь — "организация культурно-просветительная", играющая "роль благотворительницы", великий "организатор производства"... Попы, конечно же, хвалят себя; пропитанные поповщиной марксисты верят им на слово. И потом вдруг церковь "обуяла жажда наживы" — и превратила якобы самозабвенно служащих народу духовных особ в обыкновенных (и жестоких свыше обыкновенного) эксплуататоров: "Властолюбие погубило церковь".
В лоне церкви действительно родились замечательные достижения человеческого духа — но это не заслуга религии, а наоборот, попытка преодолеть отделение духа от плоти, вернуть человеческое человеку. Лилина не умеет отличить (религиозную) видимость от (практической) сути, творимое именем церкви — от ее реальной общественной роли. Глубоко религиозный человек, убежденный в правоте вероучения и безусловной необходимости "воцерковления" народных масс, может на деле оказаться носителем подлинной духовности, примером творческой свободы, не стесненной никакими предрассудками и ниспровергающей любые догматы, если они мешают людям вести себя по-человечески, сознательно обустраивать жизнь, выдавливая из себя дикость традиций и суеверий. Экономические разборки между церквями, конкуренция религий как выражение подвижности классовой структуры, — и споры вероучителей, борьба партий; на этом фоне рождается идея верховенства разума — как единственной возможности отделить зерна от плевел и агнцев от козлищ; религиозные диспуты перерастают в философские — и в той же классовой форме просвечивает призыв избавиться от земных и небесных господ, научиться, наконец, жить своим, человеческим умом.
* * *
Стендаль начинает с постулата о существовании четырех "любовей" (хотя отсутствие оснований превращает все в эмпирию, для которой одно число никак не отличается от другого):
|
Il y a quatre amours différents
|
|
В русском переводе: "четыре рода любви" — хотя в оригинале это могут быть и стороны одной любви, и фазы (обращения иерархии), или еще что-нибудь. Под конец, как и ожидалось:
|
Au reste, au lieu de distinguer quatre amours différents, on peut fort bien admettre huit ou dix nuances. Il y a peut-être autant de façons de sentir parmi les hommes que de façons de voir;
|
|
Однако продолжение заставляет принюхаться:
|
mais ces différences dans la nomenclature ne changent rien aux raisonnements qui suivent. Tous les amours qu'on peut voir ici-bas naissent, vivent et meurent, ou s'élèvent à l'immortalité, suivant les mêmes lois.
|
|
То есть, вроде бы, помимо эмпирии, есть и законы — от которых не отвертеться никому. Ну-ну, посмотрим. А пока — исходный список, который по смыслу (а не по словарю) выглядит так:
1. переживание
2. игра
3. секс
4. аксессуар
|
|
Вероятно, для рядового буржуа этим все и ограничивается. Речь лишь о том, что допускает рыночное регулирование — и если не продается или покупается напрямую, то хотя бы способствует иному бизнесу (вроде химического катализатора). То есть, не о любви — а о возможностях монетизации. Поскольку духовность человека может использовать любые неразумности — толика любви обнаруживается и здесь.
Бросается в глаза, что хватило бы и двух пунктов. Поскольку человек никогда не сводит секс к животной копуляции (и французское physique следовало бы переводить как телесность, в самом широком смысле), плотские утехи оказываются либо поиском специфических переживаний (пункт 1) — либо стремлением соответствовать, быть не хуже (пункт 4, обозначенный у Стендаля как vanité). Куртуазная любовь как следование условностям (правилам игры) — ничем не отличается от прочих способов показать причастность определенному кругу — делает любовные игры одним из аксессуаров. Таким образом, два полюса классовой любви суть эгоизм (ублажение себя) и стадность (ублажение общества). И то, и другое — рабство; а любовь свободна.
* * *
Кабе приписывает своим икарийцам изобретение идеального языка, после знакомства с которым отпадает всякое желание изучать другие (чем занимаются лишь некоторые из личной склонности, в научном плане или для подготовки переводов).
|
И вот, язык в высшей степени правильный и простой, все слова которого пишутся, как говорятся, и произносятся, как пишутся. Правила этого языка немногочисленны и не имеют никаких исключений, все слова, правильно образованные из небольшого числа корней, имеют совершенно определенное значение, грамматика и словарь так просты, что они содержатся в этой маленькой книге, и изучение этого языка так легко, что любой человек может научиться ему в четыре-пять месяцев.
Наш язык так правилен и легок, что мы усваиваем его незаметно, и менее месяца достаточно, чтобы хорошо усвоить его правила и теорию под руководством наставника, который не столько занимается простым изложением грамматики, сколько заставляет своих учеников составлять ее.
|
|
Конечно же, идея не нова: точно так же, Мор упоминает утопийский язык, который "не беден словами, не лишен приятности для слуха и превосходит другие более верной передачей мыслей"; по странному совпадению, алфавит этого языка копирует латиницу — просто заменяя латинские буквы квадратненькими значками... Понятно, что идея вряд ли пришла бы в голову древним грекам (или римлянам): зачем все это, когда есть самый совершенный из всех греческий (или латинский) язык? Пока латынь оставалась языком межнационального общения — нужды в подобных изобретениях тоже не было. Но на грани нового времени границы перестают быть феодальной условностью — и язык становится экономическим фактором. Вот тут и возникает ностальгия по былому единству — и мечта о возвращении.
Начало XX века — расцвет интерлингвистики. Очевидно влияние революционного подъема, надежда на всемирное братство. К концу века изобретательство приобретает сугубо научную окраску; сохраняются сравнительно небольшие сообщества приверженцев того или иного "международного" языка — но лишь некоторые из этих артефактов остаются массовым увлечением.
Если мы собираемся в конце концов разделаться с капитализмом и разделением труда (в том числе международным) — не значит ли это и потребности в едином языке, когда за прежними сохранится лишь исторический интерес — не предполагающий активного использования?
Вопрос непростой. Прежде всего потому, что до сих пор у людей нет ясной идеи языка, и не совсем понятно, о чем, собственно, мы говорим (не исключено, что каждый имеет в виду что-то свое). Формулы, чертежи, схемы, ноты, шахматная нотация, пиктограммы и эмодзи — все это широко используют в самых разных областях, все это развивается, рождает диалекты... С другой стороны, говорят о языка кино, о языке танца — наконец, о языке сердца! Спрашивается: что из этого нам предстоит внедрить в предполагаемое лингвистическое единство? Вопрос осложняется существованием (и рождением) многочисленных кодовых систем, компьютерных протоколов (включая тысячи языков программирования); предположительно устная и письменная речь вскоре уступят место прямому подключению одних мозгов к другим (не разбирая органических от электронных) — что тогда мы будем считать всеобщим языком единого человечества?
Язык — не только средство коммуникации. Это средство общения. В том числе глубоко интимного — что никакими формальными средствами не передать. Мы используем звуки и знаки — но за ними стоит нечто иное, к этим звучаниям и графемам совершенно несводимое. Где мы это уже встречали? Да в самой идее субъекта, духа, который можно воплощать разными способами — но лишь частично, неполным и временным образом; стоит зафиксировать материальную оболочку — дух из нее быстренько выветривается и переселяется куда-то еще. Если (как утверждают некоторые писатели) язык есть внешнее выражение внутреннего мира человека — не следует ли ожидать, что и это воплощение окажется столь же подвижным и несводимым к чему-либо одному?
Еще одно немаловажное соображение: человечество не навсегда приковано к одной планете — и к одной звезде. Космическая экспансия сделает наш быт бесконечно разнообразным — и возникновение новых локальных культур, с учетом неизбежных задержек в коммуникации, приведет и к различию средств общения. Впрочем, ехать далеко, возможно и не потребуется: сравните различия в скорости передачи информации по звуковому каналу — и в компьютерных сетях; если компьютеры дорастут до минимальной разумности — наши темпы общения их вряд ли устроят, и придется пройти через сосуществование разумов разного масштаба, в разных шкалах. Не исключено, что в мире уже существует нечто в этом роде — но мы пока не научились такое замечать.
Но как же быть с единством разума — отражением и выражением единства мира? Сможем ли мы договориться при таком богатстве возможностей?
Ответ очевиден: человеческая история на протяжении всех веков была историей сближения несопоставимого и несовместимого, контакта культур, их взаимопроникновения. Почему то же самое не может происходить всеобщим образом, на разных уровнях иерархии? Да, классовое общество не способствует совместной деятельности всех мыслимых и немыслимых реализаций субъекта — но затем мы и требуем уничтожения цивилизации, устранения классового размежевания, чтобы ничто не мешало нам быть сразу всеми и везде, на свой манер — но сообща. Стихийное слияние отдельных культур в человечество — процесс долгий и болезненный; но разумные существа преодолеют стихийность, сделают собственные взаимоотношения продуктом труда, при необходимости изобретая для этого сколь угодно разные языки, не "иностранные", а дополняющие друг друга. Не один язык, знакомый всем, — а все знакомы со всеми и понимают все без слов.
* * *
Ленин, О карикатуре на марксизм [30, 93]:
|
Спорить о словах, конечно, не умно. Запретить употреблять "слово" империализм так или иначе невозможно. Но надо выяснить точно понятия, если хотеть вести дискуссию.
|
|
Классическое сочетание "здравия" и "упокоя". Спорить о словах не умно. Потому что любые споры — не от большого ума. Да и умничать не всегда уместно... Отличать понятия от употребляемых для их обозначения слов — умение, конечно, полезное. Обозвать здоровую идею можно как угодно — от этого ее здоровье не пострадает (ну, разве что, чихнет пару раз — как от щекотки в носу). Но дело-то в том, что понятия мы вырабатываем не для дискуссий — а для дела! А по жизни ни одно понятие не гуляет в блистательной наготе — к нему пристает всякая мелочь, примешивается хаос коннотаций, далеких от строгой теории — но практически весьма полезных. Требовать во что бы то ни стало "выяснить точно" — это дурная софистика, классовая постановка вопроса, когда речь не о понятиях — а о разборках "по понятиям", о формальной принадлежность той или иной фракции. "Точность" нужна только для дискуссий; если же мы собираемся делать дело — то и говорить надо не о понятиях, и тем более не о словоупотреблении, а о деле, о предполагаемых дальнейших шагах, — и о том, что для этого нужно, и что этому мешает. Собственно, этим в итоге и определяются наши понятия.
Когда словари коллекционируют всевозможные значения слов — это никаким боком не определяет их смысла в контексте общения. Лексикограф систематизирует прагматику — но ничего не говорит о семантике. Точно та же, перечисляя признаки и проявления любви, ученый автор занят лишь ее наличными (или исторически известными) формами — что никоим образом не мешает представлять в тех же формах нечто совсем другое (хотя, конечно, в силу универсальности разума, капелька любви найдется во всем без исключения).
Воспроизводство разума — против любых размежеваний. Мы не собираемся ни с кем спорить, не заботимся о строгостях определений и номенклатуры. Мы размышляем о том, что (по нашему разумению) было бы разумно, — и показываем, как лично мы (в данном конкретном контексте) не стали бы себя вести. Не соглашаться с другими — это нормально; считать себя единственно правыми — для чего? Право — категория классовая; правота одних — против других. А нам нужно, чтобы все вместе, и каждый по-своему, — ради единства мира.
* * *
А. П. Руденко, Теория саморазвития открытых каталитических систем (М. 1969):
|
При этом становится возможным полное теоретическое описание сущности, происхождения и развития жизни на уровне точных наук.
|
|
Вот вседовлеющее заблуждение естественнонаучного материализма! Сделать одно из другого — и объяснить одно другим. Как если бы мы сделали стол из дерева — и "полностью" объяснили бы его сущность свойствами дерева; потом делаем стол из пластика — и что прикажете делать с его "деревянной" сущностью? Точно так же, жизнь вовсе не обязательно возникает на химической основе; например, общественные организмы (или сообщества интеллектуальных роботов) ведут себя так же, как "мокрая" биология.
Разговоры о "полноте" — отрицание развития. Предполагается, что предмет науки может быть исчерпан целиком — а значит, и сами вещи сложились раз и навсегда, и все различия во веки веков. Деятельность человека — как раз то, что устраняет эту неизменность, позволяет переходить от одной природы к другой.
Далее, с каких это пор наука имеет отношение к сущности, происхождению или развитию? У каждой науки свой предмет — и как только одно становится другим, прежняя наука уже не годится, и нужна другая. Сам же Руденко отмечает качественное различие химической и биологической эволюции — несмотря на "удивительное сходство". Механические системы и психические процессы можно описывать теми же уравнениями — но это формальное сходство не означает единой содержательности. Жизнь никоим образом не сводится к физике или химии; разум не выводим из физического или биологического движения. Что не мешает одной и той же системе вести себя в каких-то отношениях как мертвое тело — а в других проявлять признаки жизни или разума.
Сущность вещей — вне этих вещей; попытка объяснить ее внутри науки была бы логической ошибкой, экстраполяцией за пределы предметной области. Развитие приводит к возникновению новых уровней — но это не уровни того же предмета, это нечто иное; различие обнаруживается вне науки — и только потом становится возможно представить его как взаимосвязь разных наук. Разумеется, такие представления частичны и неполны; однако практика не нуждается в полноте — ей нужна практичность.
* * *
Бебель, Женщина и социализм:
|
Возможно более многочисленное население является не препятствием, а средством культурного прогресса совершенно так же, как существующее перепроизводство товаров и продуктов питания, разрушение брака применением женского и детского труда в современной промышленности и эксплуатация средних слоев крупным капиталом являются предварительными условиями для более высокой культурной ступени.
|
|
Вне зависимости от того, что имел в виду автор, интересна мысль о разрушении брака как одном из механизмов перехода к высшей культурности, когда люди уже не будут винтиками репродуктивных технологий, а смогут общаться по-человечески, безотносительно к производственной необходимости. Тогда не будет и разделения на женщин, мужчин, взрослых и детей... — все одинаково люди, и свободны общаться с кем угодно и как угодно.
* * *
Еще о неудачных переводах Стендаля (а откуда взяться точности, если не удается хотя бы предварительно очертить границы предмета?):
|
Le plaisir physique, étant dans la nature, est connu de tout le monde, mais n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées.
|
|
Переведено грубо:
|
Физическое удовольствие, свойственное природе человека, знакомо всем, но нежные и страстные души отводят ему лишь второстепенное место.
|
|
Однако в оригинале — удовольствие в природе; и оно там лишь есть — но вовсе не обязательно "свойственно" природе как таковой, и тем более ни слова о природе человека! Поэтому допустимо толковать и так: физические удовольствия — всего лишь природа, и этого недостаточно, чтобы стать (или оставаться) человеком. О них люди знают — что не предполагает обязанности самому через все пройти; см. ниже:
|
Quelques femmes vertueuses et tendres n'ont presque pas d'idée des plaisirs physiques...
|
|
Наконец, у Стендаля — о подчиненности (хотя бы в логическом плане) физического духовному, а вовсе не о "второстепенности" природного (которое в классовом обществе частенько подминает под себя дух). Что в реальной жизни окажется на первых ролях — зависит от требований момента; но это не отменяет самого различия природы и духа.
* * *
По Фичино, любящий до самозабвения отдает себя любимому и умирает в нем: "всякий, кто любит, умирает". Правда, горечь смерти подслащена ее добровольностью — утешение весьма относительное... Но самое интересное в другом:
|
Обоюдная любовь означает смерть только для одного, но воскрешение обоих. Ибо тот, кто любит, единожды умирает в себе самом, так как пренебрегает собой. Воскресает же в любимом тотчас же. Воскресает снова, так как в любимом узнает себя и не сомневается, что любим. О счастливая смерть, за которой следуют две жизни! О удивительная сделка, при которой кто отдает самого себя ради другого — обладает другим и продолжает обладать собой! Ибо кто однажды умер, воскресает дважды, и за одну жизнь обретает две, и из себя одного превращается в двоих.
|
|
Прекрасный пример того, как великая идея вынуждена обходится скудной обыденностью и просвечивает сквозь уродство недостаточных форм. В подсознание вбиты представления о собственности, о владении своим в противоположность чужому. Поэтому общение превращается в рыночный обмен, и если мы что-то отдаем — это смерть, и неплохо бы по итогам сделки чем-то и разжиться... Но суть любви как раз в том, что человеку не нужно ничего отдавать или обретать: он непосредственно есть другой человек — и речь не об обмене, а о слиянии душ. Дух вне пространства и времени — поэтому нельзя перенести его из одного места в другое, обменять один дух на другой. Торг здесь неуместен. Для человека любовь — это освобождение, преодоление ограниченности одним собой, которое открывает целый мир в другом — а не просто переселяется в еще одно тело.
Умирает смертное. А любовь бессмертна. Метафора Фичино — смерть животного в человеке и пробуждение собственно человеческого, духовного:
|
Человек — это дух. Дух любящего — это любимый.
|
|
Единственный путь к такому пробуждению (становлению разума) — любовь.
* * *
Мысль о божественном происхождении мира (и о неподражаемом совершенстве творения) преследует естествоиспытателей вопреки сколь угодно воинствующему атеизму. Долг ученого — постижение природы, максимально полное осознание уже имеющегося и данного навсегда; человек может улучшить бытовые условия только в этих божественных рамках — и не удивительно, что наука так легко мирится с поповщиной всех мастей, прогибается под мистику и мифологию. Остается лишь "научно" обосновать неизбежность классовых различий — и вот вам апологетика существующего экономического и общественного строя, якобы не допускающего принципиальных изменений, и остается только приспосабливаться к "естественности" путем мелких реформ.
Но и на этом пути возникают забавные парадоксы: смещение акцентов — и смешение уровней. Например, совершенно типичную фразеологию встречаем у философствующего химика: А. П. Руденко:
|
Разумность постановки задачи систематического активирования катализаторов в результате их искусственного отбора не вызывает сомнения.
Однако полное моделирование ферментов и ферментативных процессов этим путем невозможно. Эволюционный процесс осуществляется посредством естественного отбора изменений, самопроизвольно, а указанный выше процесс — произвольный, зависящий от случайно избранного экспериментатором критерия искусственного отбора.
|
|
То есть, естественный отбор отбирает заведомо лучше — а мы лишь угадываем отдельные фишечки, или не угадываем — и тогда результаты плачевны... Оказывается, что "самопроизвольность" — это вовсе не случайность, а высшая мудрость провидения; тогда как человеческий "произвол" — совершенно от фонаря. Простой факт, что за нашими действиями стоят сознательные намерения — от автора ускользает! Происходящее в неживой природе — изначально не предполагает никаких намерений и потому случайно в полном смысле слова: куда кривая вывезет. Необходимость метаболизма (как определяющая черта жизни) столь же противоположна всякой намеренности, и возможности эволюции полностью ограничены рамками случайных вариаций. Человека не устраивает такая, нечеловеческая (а часто и бесчеловечная) естественность — как совершенна они ни была в ее собственной логике (то есть, с точки зрения некоего "высшего" — и значит, опять-таки, заведомо неприродного существа). Человеку важно добиться своей, сознательной цели — и он отбирает из природных качеств только те, которые лучше отвечают поставленной задаче. В конце концов, сами понятия эффективности и специфичности катализаторов — в природе начисто отсутствуют: это чисто человеческое требование, проектное задание, предписанное природе направление развития (а ей самой — абсолютно все равно). Поэтому сколь угодно "фонарный" эксперимент оказывается разумнее любой природы — а вековой исторический опыт показывает, что искусственный отбор в сотни и тысячи раз сжимает времена эволюции — а в наше время один месяц может запросто сойти за миллион лет.
Но вопрос о принципах выбора никто с повестки дня не снимал. Самые дикие фантазии — зачем-то необходимы: они подчеркивают неприродность связей, которые человек устанавливает между живыми и неживыми вещами, — а без этого не будет полномасштабного единства мира. Но произвол — не случайность, и не следование необходимости. Это именно человеческий, духовный произвол — способ одухотворения природы. Художник может бросать краски (а музыкант ноты) наугад — но делает он это намеренно, имея в виду вполне определенный результат и отбирая из тысяч попыток удачные; точно так же ученый может иногда работать "методом тыка" — но за этим всегда стоят эвристические соображения и потребность вписаться в культурные тенденции. Даже если речь о работе на рынок — рыночную конъюнктуру надо унюхать, и поставить востребованный товар.
Когда же люди безвольно плывут по течению или идут на поводу у неразумной необходимости (включая и капризы природы, и классовые общественно-экономические установления) — они деградируют до дикости, до природного состояния; такое поведение уже нельзя назвать человеческим — эта одна из глупых случайностей природы, через которые пробивает себе дорогу естественный отбор.
* * *
Немецкая идеология [3, 27]:
|
... люди, ежедневно заново производящие свою собственную жизнь, начинают производить других людей, размножаться: это — отношение между мужем и женой, родителями и детьми, семья.
|
|
Здесь зародыш последующих ошибок, идеологических перекосов. Один раз уступить буржуазной идее вечности и первозданности семьи — и нет больше исторического материализма! Размножение — чистая биология; животные с этим прекрасно справляются. Родство как общественное отношение не возникает сразу, оно складывается по мере разделения труда, противопоставления одних людей другим — то есть, в процессе рождения классового общества, цивилизации. Возникновение семьи как институированной формы родства — относительно позднее явление, предполагающее (хотя бы в зародыше) отношения собственности; поэтому говорить, что семья "вначале была единственным социальным отношением" — ложь, исторический подлог, на котором спекулирует буржуазная пропаганда, и Маркс с Энгельсом вдогонку...
Где-то в глубине товарищи это чувствовали — и там же [3, 28] есть длинное (хотя и корявое) примечание о связи семьи с хозяйственным обособлением, которое заканчивается гениальной догадкой:
|
Само собой разумеется, — упразднение раздельного хозяйства не отделимо от упразднения семьи.
|
|
Это чуть ли не единственное место в наследии классиков, где открытым текстом сказано: семья должна умереть — а значит, и существовала она не всегда, и нельзя называть семьей какие угодно отношения между первобытными (или современными) людьми. В оригинале использован гегелевский термин: Aufhebung. То есть, не "упразднение" — а снятие, изживание, создание таких культурно-экономических условий, при которых такая форма общественной связи оказывается неуместной, и на смену придет нечто совсем иное.
Но (на поводу у схоластически гипертрофированного тезиса о первичности материи) Маркс не заметил обратной стороны того же самого: не только раздельное хозяйство ведет к семье, но и семья на каждом шагу порождает раздельное хозяйство — и тем самым дает толчок развитию самых сложных форм разделения труда, воспроизводит классовое общество как таковое. Поэтому упразднение ("снятие") разделения труда невозможно без уничтожения семьи: любые попытки сохранить эту "естественную" (а значит, природную, неразумную) связь приведут к разрушению экономического и духовного единства, сделают бесклассовое общество невозможным.
Разумеется, качественный скачок — не просто переключение из одного состояния в другое (чего и в природе не бывает); в какой-то шкале это окажется долгим и болезненным процессом, со своими уровнями и этапами. Но затевать революцию в экономике не меняя характера отношений между людьми — нонсенс, логический ляп.
* * *
На волне западничества, в русле возведения статистики в ранг науки и моды на гадание на статистических отчетах (как на кофейной гуще или по внутренностям жертвенных баранов), в СССР вылез один из самых бесстыжих манипуляторов и карьеристов — И. В. Бестужев-Лада. Одним боком — все в пределах официоза; но якобы академические публикации — махровая антисоветчина (не говоря уже о принципах исторического материализма). Забавно, что после контрреволюционного переворота, его писанина оказалась совершенно невостребованной; как ни старался он быть правее всех правых — дело сделано, и мавр может уйти. Пустота статистической "прогностики" со всей очевидностью обнаруживается в переломные годы: исходные посылки якобы научного метода становятся заведомо неверны — и дальше беллетристика: любые совпадения с реальными событиями и персонами совершенно случайны. В конце концов, на то она и статистика — наукообразный игорный дом.
Творения Бестужева (хвостик к фамилии он себе добавил понту ради) — сочетание пошлой пустоты и буржуазной апологетики. Этим он ничем не отличается от западных социологов — коих там несусветное изобилие, и добавочные экземпляры ни к чему. Для части совковых интеллигентов бестужевские откровения могли сойти за прогрессизм; когда хляби разверзлись, стало ясно, что ничего кроме переписывания чужих инструкций за прогностической "наукой" не стоит. Например, в тенденциозной книжице Поисковое сознательное прогнозирование: перспективные проблемы общества (М. 1984) Бестужев наводит статистику на данные загсов — из которых (без учета неформальных реалий) ровным счетом ничего не следует, — и притягивает от фонаря убежденность в
|
непреходящей ценности самой семьи, причем, понятно, в ее наиболее развитом виде — моногамии, основанной на полном равноправии супругов, на любви, уважении, общности интересов всех членов семьи. Критика в адрес семьи минувших времен совершенно справед-лива, но она относится к семье построенной на неравноправии и подавлении личности.
|
|
Это мы слышали миллион раз — будет миллион первый. Теорию пролетарской моногамии Маркс и Энгельс продвигали еще в середине XIX века — а позже Энгельс разрекламировал книжку буржуазного социолога Моргана о вечности и непреходящей ценности семьи, что тут же стало непререкаемой догмой правоверного марксизма. Фактов нет — есть ложь. Формально-правовое равноправие ничего не говорит о фактическом равенстве: рабочий имеет полное право получать зарплату больше генерального директора, или хотя бы сменного инженера, — но почему-то не получает. Общность интересов при капитализме возможна лишь в форме бандитского сговора, намерения вместе грабить кого-то со стороны; но даже полностью контрактный брак, подчиняя действия членов семьи статьям устава, оставляет всех подписантов при своих интересах — ибо единственное равенство, которое признает буржуазное общество, есть абстрактная противоположность рыночных агентов: каждый ищет своей выгоды, и общественный характер производства может проявлять себя лишь статистически, как равнодействующая индивидуалистических сил. Если общество в целом не предполагает единой цели — временные союзы вечных врагов остаются фикцией, видимостью единства. Моногамия, по сути, и есть абстракция рыночной сделки, элементарный акт обмена, из которого (по Марксу) вырастает капитализм. Стороны сделки — не вместе, а против друг друга; это всегда конкуренты — и потому никакой любви ожидать не приходится, а уважение возможно лишь в смысле соблюдения правил игры.
Критика в адрес старой (феодальной) семьи — столь же корыстна, как и борьба против крепостного права: буржуй против крепостничества поскольку ему нужен достаточно обширный рынок труда, где есть шанс сбить цену, спекулируя на избыточном предложении; однако держать рабов в ежовых рукавицах таки нужно — и поэтому воспроизводство экономического субъекта регулируется институтом семьи, призванным ограничить как масштабы производства, так и спектр рыночных интересов. Рыночные роли в буржуазной семье расписаны без малейших вольностей — и говорить о равноправии никак не приходится; что же касается подавления личности — сама необходимость формальной принадлежности группе (неважно, по каким признакам) и соблюдения установленных внутри нее правил есть жесткое ограничение на диапазон доступных деятельностей, уничтожения всякой свободы — и смерть личности. В этом смысле буржуазная моногамия ничем не лучше "старой" семьи — и даже внешне от нее почти не отличается. Это, собственно, и позволяет идеологам господствующего класса говорить о вечности семьи, и подгонять любые отношения людей под классовые стандарты. Настоящая критика семьи, вскрывая ее классовые корни, закономерно ведет к представлению о таком обществе, в котором люди не противостоят друг другу в структуре производства, а вместе трудятся, никак не ограничивая способы и сроки участия; в таком мире семья (как и любые другие коллективы) не только становится излишней, но и просто невозможна: каждый непосредственно представляет общество в целом, и обособить какую-то часть общества от всего остального, не ограничивая этой свободы (то есть, не подавляя личность) никак не получится.
Заметим, что обычные (то есть, не занятые в секторе буржуазной пропаганды) советские люди (в отличие от совков) прекрасно понимали глупость бестужевских (и тому подобных) абстракций. Народные недоумения порой просачивались на публику благодаря модному в то время (заимствованному из западных политтехнологий) поветрию вести в массовой периодике специальные "диалоговые" разделы, где якобы специалисты якобы компетентно отвечали якобы наивным простачкам. Например, в официозно-популярном журнале Человек и закон была рубрика Собеседник, где задавали вопросы и о семье. В частности, народ спрашивает: с какого бодуна большие теоретики ограничивают семью только отношениями супругов и прямого потомства (что по научной фене называют нуклеарной семьей)? Общеизвестно, что родственные связи затрагивают (главным образом, экономически) широкий круг формально связанных меж собою людей: родители супругов, родители родителей и дети детей; и у всех могут быть братья и сестры, и прочая родня до десятого колена. Трудоспособные тянут нетрудоспособных, а те, в свою очередь, делегируют спонсорам политические права. Если закон ограничивает такие (наследуемые) права тремя очередями — это чистая условность, тогда как на практике случаются очень запутанные комбинации, которые не всякий суд разрулит. Если бы каждый член общества получал все необходимое для полноценной жизни напрямую от общества — никаких проблем; однако на практике приходится заниматься дележкой имущества и финансов, выделять доли и в неразделимом — а значит выводить людей на рынок, придавая ему статус высшей судебной инстанции.
Тут прямой ответ г-ну Бестужеву, который (вслед за буржуйскими теоретиками) молча предполагает (неявно постулирует) нуклеарную семью — хотя в советской действительности ничего подобного не было. Но даже если абстрагироваться от широчайшего фона семейственности, никакой свободы в отношениях супругов изначально не предполагается; тем более не по своей воле дети поставлены в зависимость от родителей. Вследствие экономической зависимости людей друг от друга семья всегда выражает экономическое угнетение одних людей другими. Подчиняя (экономическое) поведение супругов "интересам семьи" — подчиняют их интересам господствующего класса, которому выгодно подменить духовную, личностную связь производственными ролями, позициями в штатном расписании, согласно которому одни руководят другими на "законном" основании (или следуя "естественной" логике вещей). Понятие иждивения есть прямое выражение общественного неравенства — но, как и в отношениях классов, существует взаимная зависимость: рабам выгодно переложить ответственность (и вину) на господ, тем самым паразитируя на их положении в общественном разделении труда. В классовом обществе все эксплуатируют всех — одни паразиты сидят на шее у других паразитов, и подставляют свою. Больная в советском общества проблема паразитизма взрослых детей красноречиво говорит о том, что они не могут (и не стремятся) (экономически) обособиться в рамках чрезмерно жесткой экономики, спутывающей (экономическую и личную) свободу паутиной родства. Та же проблема стоит и перед процветающим буржуинством — и бурный рост количества и разнообразия типов альтернативных семей стал неизбежной реакцией рынка на кризис семейственности как таковой. Однако в рамках классовой экономики любое лечение — не более чем паллиатив, и окончательно разделаться с общественно-экономическим неравенством и подавлением личности возможно лишь путем отказа от классовой общественной организации в целом — и от семьи как ее источника и опоры.
* * *
Когда буржуазные авторы пишут о религии — им не дано сказать хоть что-нибудь по существу. Две крайности в трактовке тантризма: либо вульгаризация и опошление, сведение к практикам секса, — либо напыщенно-мистическое благоговение, попытки за каждым словом отыскать что-нибудь не от мира сего. И те, и другие — на благодатной почве: как и всякое поветрие, тантризм растекается на тысячи ручейков, и среди его последователей (или примазавшихся) обязательно найдутся как легкомысленные искатели развлечений — так и свихнувшиеся на собственной непроходимости мистики. Отыскать за всем этим единство может лишь здравомыслящий, свободный дух, знающий о неизбежности разнообразнейших воплощений — и о единственности мира, которому все эти частности принадлежат. Мы не собираемся отказываться ни от тонкой духовности — ни от грубой материи, или наоборот: от тонких материй и грубости духа. Упертость в одно — не от большого ума, не говоря уже о дефиците разумности.
Вот, например, психоаналитические изыскания буддистской ветви тантризма: дескать дух проникает из области кармических видений в утробу матери — и накачивает сознанием эмбрион, и дальнейшие психические движения хранят следы память о "сексе изнутри"; однако на самом деле будущая личность существовала и до своей утробности — и ее приключения в выдуманных эмпиреях детально описывают древние восточные фантасты...
Казалось бы, очень похоже: если "сущность человека" (робкий эвфемизм правоверных марксистов для слова дух) — совокупность всех общественных отношений, логично допустить, что складываются эти отношения безотносительно к физиологии размножения, и органическое тело лишь представляет их для общества, служит удобным знаком. Разумеется, как слова ничего не значат сами по себе — так и тела никоим образом не становятся "вместилищем" духа: общество заставляет их двигаться так, чтобы соответствовать обозначенной телом не совсем материальной идее. Следовательно, допустимо говорить о движении духа до (биологического) рождения и после (юридически признанной) смерти — эти акты относятся лишь к телам, к частному и ограниченному выражению целого.
Тем не менее, поскольку органические тела дух каким-то образом выражают, присущие органике процессы метаболизма (включая секс и деторождение) можно (и нужно) использовать в разумных целях — не забывая о конечности любой их таких "практик" и творческом их преобразовании по ходу личного и общественного развития. Тут, казалось бы, снова смыкаемся с попами: половая любовь лишь в той мере духовна, в которой она отвечает насущным чаяниям человечества в целом, выразителем которых и становятся по-человечески любящие; другими словами, можно сколько угодно кувыркаться в постели (или других местах) — но не забывать при этом о высшем предназначении всего этого: служить единству мира в целом, поднимаясь до уровня всеобщих идей.
Ставим две картинки рядом — и предлагаем: найдите десять отличий. Сразу оговоримся, что отличий бесконечно много — но что найдем, то наше...
Прежде всего — речь не об открытии потусторонних истин, данных раз и навсегда. Ни одна вещь не может целиком уместиться ни в какую категорию — и всякое столкновение вещей рождает что-то новое, чего наши правила не предусматривают, и не могли предусмотреть. Различие материального и идеального, телесного и духовного — относительно, изменчиво, подвижно. Стоит духовному застыть — это уже догма, противоположность духовности, отрицание разума.
Следствие: нельзя поделить чувства и деяния на "высшие" и "низшие" — ибо любой порядок возникает лишь по отношению к чему-то, что становится в этом случае темой разговора и основанием суждения, вершиной иерархии, в глубине которой найдется место и чему-то еще. Выберем другую тему — порядок может измениться (и скорее всего изменится). Свобода разума в том, чтобы переходить от одного обращения иерархии к другому по мере надобности, выбирать именно ту шкалу, которая уместна в деятельности на данный момент.
Кстати о свободе. Религиозное мышление систематизирует и предписывает допустимые возможности — человек сам ставит себе пределы допустимости. Разум идет от секса к любви столь же легко, как и наоборот; дух "проникает" в утробу столь же свободно, как выделяется из нее. Чтобы развиваться духовно — мы двигаем тела; но мы столь же вольны предоставить им двигаться перед нами — и угадывать в этом самих себя.
Таким образом, головокружительные конструкции потусторонней реальности, коими нас стращают попы всех мастей, — это не столько игра фантазии, сколько свидетельство ее отсутствия. Мир не стоит на месте, и любые наши изобретения (даже если интуиция не ошибается) привязаны к одной точке и эфемерны: здесь так — с другого боку иначе; сейчас так — мгновением позже ничего подобного. Неведомое меняется быстрее хорошо знакомого; круги ада превращаются в этажи небес — и наоборот. По большому счету, нам и не важно, как там, за горизонтом, все устроено; нам нужно устроить по-своему, — а потом рассыпать карточный домик и сложить совсем не так. Мы в состоянии нагрузить духом любое тело — и одухотворить самый грязный секс. Но мы можем и обойтись без любого из тел — и любить издали, через века.
* * *
Телесно-ориентированная терапия — реакция на мистический уклон в психоанализе. Фрейд подчеркивал, что его модельные абстракции — лишь предварительная ступень, пока не найдено более основательных, явно регистрируемых психических характеристик; психоанализ после Фрейда предпочитает вообще не заморачиваться объяснениями: либо достаточно формального анализа самого по себе — либо психическую динамику списывают на универсальные "архетипы", самосущие идеи. Оба варианта терапевтически бесперспективны; поэтому Фрейд в конце жизни сомневался в возможностях им же изобретенного метода.
Психоанализ начинал с физиологических аналогий — но с самого начала было ясно, что дело тут не в физиологии, что за ней стоит что-то еще. Не имея ни малейшего представления об общественной сущности человека, о сознательной деятельности как единственно возможном способе его бытия, физиологические клише заменили мистическими, протащили бога через задний проход. Любые ссылки на тело — всего лишь метафора...
Чтобы не заблудиться в царстве теней, логично вспомнить, что дух не сам по себе — это всего лишь отношение вполне материальных вещей, в деятельности человека ставшее не просто отношением между людьми, и не только духовным, но и материальным, взаимодействием тел. Если что-то в человеческой (принципиально не животной!) психике пошло не так — значит, наличные телесные формы не отвечают устремлениям личности — и пора заняться восстановлением гармонии. Поскольку же радикально менять общественный строй не позволяет рыночная религия, обновить тело в соответствии с насущными задачами не представляется возможным, и единственный выход — ограничить человека, вернуть его в органическое тело. Да, где это получается — это работает. Но не решает собственно человеческих проблем — а просто обрезает их, кастрирует дух, не позволяя ему выходить в такие сферы, где примитивной телесности недостаточно. Вместо того, чтобы снять общественные барьеры — довольствоваться малым. Концентрат этой идеологии — в книге А. Лоуэна Предательство тела:
|
Полное отсутствие контакта с телом характерно для шизофрении. Вообще говоря, шизофреник не знает, кто он есть, а поскольку он не соприкасается с реальностью, то не может даже сформулировать такой вопрос. Шизоид знает, что у него есть тело. Но поскольку Я не отождествлено с телом и не воспринимает его как живое, человек чувствует, что мир и люди не имеют к нему отношения. У здорового человека такого конфликта нет, поскольку его Я идентифицировано с телом, а его знание об этом отождествлении следует из чувствования тела.
|
|
Идентификация как один из основных психологических механизмов — это из Фрейда. Но если у Фрейда речь об уподоблении одной личности другой (то есть, в пределах одного уровня иерархии, оставаясь какими ни на есть людьми) — телесно ориентированная терапия предлагает засадить себя в тело, ограничить чувственность "чувствованием тела", смакованием ощущений. Собственно, этому служит любая наркота — от водки и сигарет до убойной химии, религиозных догм или творческого горения. Конечно, человек (поскольку он еще не до конца оскотинился) не может идентифицировать себя с животным — и речь все равно об уподоблении одного человека другому; но вместо высоких образцов нам предлагают стадную психологию, услужливость раба, которому удобно в этой роли, и который сознательно отказывается претендовать на привилегии господ, снимая с себя всяческую ответственность.
Отсюда полное непонимание шизофрении — вплоть до исключения ее из официального списка психических болезней в силу совершенной неспособности с этим справиться. Давайте, дескать, лечить симптомы, облегчать страдания по мере возможности...
Проблемы шизофреника не в том, что он не знает, кто он есть, — наоборот, он угадывает то, в чем другие не решаются себе признаться: человек осознает, что его личность не сводится к органическому телу, и даже к совокупности тел; мое Я — это нечто большее, грандиозное, необъятное, захватывающее весь мир. Но другая сторона того же — отрицание монополии на вот этот единичный организм, признание за ним потенциальной возможности служить материей кого-то другого. Клиницисты не в теме — и считают это всего лишь расщеплением сознания (отсюда и название). Классовая ментальность железно знает: все в мире кому-то принадлежит, все продается и покупается (или узурпируется, на стадии первоначального накопления). Шизофреник отказывается кому-либо принадлежать — и не хочет никем владеть; прямо-таки верх безумия! А всякие там лоуэны сочувственным тоном поучают: ну что, Вы, право! — у вас, ведь, такое замечательное тело; овладейте им на всю катушку — и не будет никаких проблем. Да, все остальные тела — чужие; но есть же что-то и свое!
Но человек не хочет пошлой телесности — ему нужен мир целиком. Это не боль — это восторг. Больно, когда осознанной духовности сопутствует отчетливое понимание классовой ограниченности: куда ни ткнись — везде рогатки, и полицаи с дубинками. Вместо того, чтобы делиться миром с другими, — приходится оборонять выделенный в пользование жалкий клочок от любителей отнять последнее. Поначалу шизофреник может согласиться на терапию, послушно принимает нечто психотропное... Да, это отупляет, это лишает полноты жизни, — но иногда лучше кошмарный сон, чем кошмары наяву. Однако совсем истребить разум — не получится. Неудовлетворенность пробивается наружу — и неизбежен срыв, и потом все чаще... В конце концов, проще сразу покончить с этим: по-человечески, честнее — предать тело, чтобы не предавать себя. А дух не пропадет — его подхватятся презренные "шизоиды", умеющие смотреть на классовый быт со стороны.
Владеть телом — значит попасть под его власть. Надменные обладатели "собственных" тел кичатся своей принадлежностью к толпе обывателей, не знающих ничего кроме этой филистерской "реальности". С этой реальностью шизофреник действительно не соприкасается — он вынужден строить себе реальность как-то иначе, в мечтах, в наивных попытках усмотреть за окружающей пошлостью разумное и человечное. Но в итоге оказывается, что шизофреник (и в какой-то мере шизоид) видит мир куда вернее, чем миллионы "здоровых", — и трагедия как раз в том, что вполне реальные конфликты этого мира человек принимает близко к сердцу, для него нет чужих бед — все внутри. А это колоссальная нагрузка на психику, которая досталась нам от животных вместе с животными телами — и не очень-то годится для наших масштабов.
Очевидный вывод — надо менять тела. Не просто генетически модифицировать — а выходить на иной уровень, за рамки органики. Такое, неорганическое тело у каждого человека есть — это совокупность всех предметов (элементов культуры), которыми человек управляет как своими органами, через которые воздействует на мир и посредством которых воспринимает мир. И оказывается, что органическое тело требуется все реже: нет руки — есть внешние манипуляторы; ноги заменяют все более совершенные приспособления для передвижения; внутренние органы поддаются замене; возможности мозга безгранично расширяет интеллектуальная техника. Именно отсюда замечание Лоуэна о том, что "неуверенность в отождествлении типична для людей нашей культуры". Можно с уверенностью предсказать: чем дальше — тем типичнее. Люди, наконец-то, начинают осознавать себя людьми, а не животными; "эта проблема и есть шизоидное отклонение".
Еще раз: ничего трагического в таком "размывании" телесности нет. Больно становится там, где человек с разгону налетает на выставленные рыночной экономикой барьеры, когда его стремление вершить судьбы мира (а разум на меньшее не согласен!) грубо обрывают полицейскими мерами, лишают доступа к всеобщему продукту, достоянию всего человечества. Нельзя! — это чужое! Всеобщее отчуждение не оставляет человеку вообще ничего — и даже выданное в пользование органическое тело запросто могут продавать и перепродавать, использовать в чужих интересах, пытать, калечить, убить. Другая сторона — отчужденность, враждебное (или подозрительное) отношение к другим, невозможность духовного единства, любви.
Уберите рыночное безумие, оголтелую дележку на свое и чужое, — зачем дорожить неудобной и обременительной органикой? Когда в нашем распоряжении космический корабль — будем ли мы думать о межпланетных путешествиях на велосипеде (типичное несоответствие "образа" и "реальности", которое ненормальные врачи приписывают нормальным шизофреникам)?
Где всякий может участвовать в любой деятельности — весь мир становится телом каждого, и в любом теле один дух никак не помеха другому. Нет противостояния одних другим — нет и внутренних конфликтов. Так — и только так — возможно навсегда снять отчуждение духа от тела; такова подлинная телесно-ориентированная терапия, которая не вынуждает человека ограничиться ничтожной крупицей бытия, а предлагает в полной мере ощутить безграничность своего нового тела, духовную свободу, — и предоставляет такую же свободу другим, независимо от используемых ими тел.
* * *
Шекспир:
I loved Ophelia: forty thousand brothers
Could not, with all their quantity of love,
Make up my sum.
|
|
Цветаева:
— Меньше,
Все ж, чем один любовник.
|
|
Любви не бывает больше или меньше. Торг здесь неуместен. Вопрос принципиальный: есть любовь — или нет любви? Но когда говорят: любил — значит, любви нет. А нет — значит, и не было! Следовательно, и быть не могло. Любовь — до нас, вместе с нами, и навсегда после.
* * *
Stendhal :
|
Aimer, c'est avoir du plaisir à voir, toucher, sentir par tous les sens, et d'aussi près que possible, un objet aimable et qui nous aime.
|
|
Очень важно! — в любви нет ничего второстепенного, в ней заняты все без исключения чувства, от самых первобытных — до абстракций науки или искусства. Любимые во всем, в каждой нашей клеточке, в любых оттенках настроений. Но это означает, что они нас любят столь же универсально, во всех возможных и невозможных проявлениях. Нельзя предпочесть одно из чувств другому: это ограничивает, сдерживает, порабощает. Ставить одно выше другого — кощунство, отрицание любви. Любовь — весь мир, и мы дарим любимым весь мир.
* * *
Андре ле Шаплен, вердикт Марии Шампанской (от 1 мая 1174):
|
Мы ясно заявляем, что любовь супружеской пары не способна обнаружить всю свою силу, ибо любящие совершают все добровольно и не находятся под принуждением, тогда как состоящие в браке обязаны исполнять желания друг друга и ни в чем друг другу не отказывать.
|
|
Идея свободы любви здесь лишь следует античной традиции — и сама возможность выносить любовь на чей-либо суд напрочь отвергает ее свободу. Конечно, трудно ожидать от придворных игр логики и последовательности. Когда милые дамы устанавливают закон: Кто любит по-настоящему, тот хочет обладать только своей любимой, — они даже не догадываются, сколь далеко это от любви! Любовь не бывает не настоящей — и предписывать ей правильность никто не в праве. Обладание — лишение свободы, и о заявленном в "кодексе" уважении желаний любимой или любимого — уже не может быть и речи. Ограничивать любовь одной парой — чем это отличается от брака? Тем более, если речь всего лишь о замене одного другим:
|
Следующее правило любви учит, что никто не может любить сразу двоих, и поэтому любовь между супругами не имеет правового статуса.
|
|
В дополнение к официальному браку — еще и теневой; что это меняет? В куртуазной любви больше политики, чем экономики, — но это не отношения свободных людей, а утонченность несвободы. О политике тут же открытым текстом:
|
И как может супруг повысить свой общественный авторитет путем любовного служения своей собственной жене, будто она его возлюбленная, если невозможно внутренне совершенствоваться и добиваться большего признания за счет того, чем обладаешь изначально?
|
|
Общественный авторитет — это не шуточки! Умение играть в принятые обществом игры — показатель деловой квалификации (как и умение фехтовать, или пить не пьянея). И в наши дни предполагается, что "культурный" (живущий по понятиям) человек в курсе спортивных событий, новинок эстрады, наслышан о "культовых" писателях и законодателях моды; он может презирать сериалы — но знаком с каждым в общих чертах, и улавливает намеки на персонаж. Так принято; а кто не принимает правил игры — того нигде не примут.
|
Есть и еще одна причина, отрицающая супружескую любовь: между мужем и женой не существует истинной ревности. Но без ревности не бывает истинной любви, о чем свидетельствует другое правило: "Кто не испытывает ревности, тот не любит".
|
|
Когда Отелло прирезал жену — это истинная ревность или нет? Гибель Мурки — эталон куртуазности? Мы уважаем желания партнеров — но нежелание нам целиком принадлежать расцениваем как измену и личное оскорбление. Верх лицемерия, предвестие буржуазного ханжества. Ревность несовместима с любовью: если любимому человеку кто-то нужен — любящий обязан сделать все для их счастья, ибо в этом и его счастье, высшее блаженство быть нужным своей любви.
|
Это принятое нами после долгого совещания и с одобрения многих других дам и оглашаемое теперь решение является непреложно истинным, и его полагается исполнять.
|
|
Любовь — сама себе истина, и никому ничем не обязана. Законы для тех, кто не знает любви. Чтобы не мешали другим быть любимыми и любить.
* * *
Наихристианнейший Шатобриан:
|
Женщины в новое время возбуждают не только любовную страсть, они оказывают влияние и на другие чувства. Нам передается что-то от их изнеженности; наш мужской характер становится менее решительным, и в наших страстях появляются некая неуверенность и хрупкость.
|
|
До русских женщин — с конями и горящими избами — француз не дожил (или не дорос); тем более не могли ему привидеться кошмары наших дней: смешение полов в армии, женский спорт, женщины за рычагами экскаваторов или экономическими рычагами... Но хотя бы в одну сторону — постановка вопроса есть: стирание различий между полами как историческая тенденция и объективная необходимость. Мужчины утрачивают мужиковатость — но и женщины уже далеко не послушные самочки, созданные только для того, что мужики называют любовью. Заметим, кстати, что эфирность французских дам и в XIX веке существовала лишь в романтическом воображении: обслуживать и рожать — та еще нагрузка, и не всякому молотобойцу оно по плечу! Поэтому якобы женственность тамошних мужчин — не по женскому образу и подобию; это целиком и полностью изобретение мужчин — поначалу в качестве высокомерного сексизма, а потом и как мужская привычка (ибо сознание людей для того и существует, чтобы менять их бытие).
Вопрос, конечно, гораздо шире телесных и поведенческих различий: тут XX век порушил все и всяческие границы, и пол можно не только воображать себе или имитировать — но и менять по собственному усмотрению, или удариться в еще какую-нибудь альтернативность. Речь о том, что участие людей в общественном производстве все меньше зависит от приписанных к ним биологических тел — и больше идет от условий труда и быта, становится даже не движением расширенного, неорганического тела — а движением истории, единством материи и духа. Человечество нуждается в каких-то типажах — и оно производит их как любые другие продукты деятельности. Нужны изнеженные мужчины или бой-бабы? — будут и те, и другие, — как явления культуры. Можно производить детенышей без женщин — их будут выращивать в инкубаторах, несмотря на ожесточенное сопротивление официальных и неофициальных властей. В конце концов память о половых различиях может вообще выветриться — и само понятие пола станет исторически неуместным. Некрасова тогда еще смогут понять (если придется тушить пожары или тормозить шальных зверюг); пафос Шатобриана тамошнему человеку — туманный архаизм.
* * *
В переходные эпохи рождаются странные гибриды отживающего и приходящего на смену. Классический пример — книга В. В. Елизарова Перспективы исследования семьи (1987). Якобы сугубо научный труд оформлен в советских традициях, с неизменными ссылками на решения партийных съездов и работы классиков марксизма; однако по характеру и содержанию — это типично буржуазное, тенденциозное творение, следующее худшим традициям западной экономики и социологии, где на первый план выдвигают видимость, внешние формы, — которые объявляют характеристикой вещей как таковых (it walks like a duck, it quacks like a duck; let's take it for a duck), их природой. Что мы здесь и называем эмпирионатурализмом.
В качестве оправдания — философия моделирования: дескать, предмет изучают эмпирически до тех пор, пока не построена его модель; после этого можно играть с моделью и смотреть, как ее поведение соотносится с "прототипом" — интерпретировать наблюдения в духе рабочей модели, подводить под закон. Само по себе оно безобидно: такова, в общих чертах, логика любого научного исследования — от наблюдения к теории, от теории к методу. Будет теория сугубо умозрительной, или выраженной в формулах, или воплощенной в компьютерном коде, — большой разницы нет. Главное, чтобы на этом основании принимать практические шаги. Опасный поворот — когда абстракции (умозрительные, символьные или программные) начинают путать с реальностью и специальные термины принимать за слова естественного языка. Буржуазные "исследователи" идут на это вполне сознательно: им платят за такую подмену — а на честную науку никто и гроша не даст. Обывателя надо застращать и убедить — чтобы он потом сам других стращал и убеждал, от чистого сердца. Советские — шли за буржуазными, заимствуя теоретические модели вместе с их идеологической подоплекой.
История банальная: у Елизарова был достаточно свободный доступ к вычислительным мощностям, что позволило адаптировать под свои машины ряд зарубежных программ — и потратить энное время на численные эксперименты. Занятие в то время вполне обыкновенное. Почему западные модели? Потому что "советские демографы делают лишь первые шаги", и шаги эти "слишком робкие". И то верно: робеть массово перестали в 1990-х, после антисоветского переворота... Короче: запрограммировали, поиграли, отрапортовали. Подвести под это якобы научную базу — дело академической техники.
На первый взгляд, выглядит солидно. Семь функциональных блоков (число красивое?) — включая не только страшноватый блок смертности, но и блок потребности в детях, и блок плодовитости... Остается только выяснить: о чем это? Почему это называется моделью семьи — а не как-то иначе? Какие у нас на то основания?
Оказывается, что оснований никаких. Семья для Елизарова — всего лишь демографическая единица, рабочее место для изготовления детей; соответственно, его модель призвана стать этапом на пути к "разработке основных принципов управления репродуктивным поведением семьи". Особенно смешно про долгосрочную целевую комплексную программу "Семья", которая станет частью "плана экономического и социального развития страны на длительную перспективу". Всего четыре года — и уже не будет ни этой страны, ни ее планов...
Конечно, если ставить вопрос так узко — эргономика семейного деторождения на это самое деторождение безусловно влияет. Но кто сказал, что семья занимается только этим? Есть и другие стороны семейной жизни, помимо демографии, — и тот же Елизаров допускает возможность особой науки "фамилистики", которой предстоит собрать все это под одной крышей... С другой стороны, производить детей запросто можно и без семьи — и если поправить программы с учетом этого обстоятельства, модель тут же укажет на перспективу отмирания семьи (чего начальство, конечно же, допустить никак не может, ибо семья им нужна вовсе не для детей, а для чего-то еще).
Елизаровские представления о семье сводятся к филистерским предрассудкам. Конечно же, семья возможна только в браке — а брак заключается "для нормального духовного и физического общения супругов". Если (вместо ссылки на некоего Рясенцева) открыть российский кобс — ничего подобного там обнаружить нельзя; но для автора это без разницы — ибо у него есть абстрактная модель семейной рождаемости, согласовывать которую с фактами никому не интересно. И снова: называть это моделью семьи — как-то странно; с тем же успехом это может быть моделью рыночного спроса (с целью управления массовым потребителем), или моделью взаимодействия детородных органов внутри биологической особи, или даже моделью продуктивности разработки программного обеспечения. Но самое замечательное, что "модели семьи" не нужна даже семья:
|
... демографов не интересуют факты из жизни той или иной отдельной семьи или даже факт ее конкретного существования сам по себе. Объекты исследования в демографической статистике — совокупности, большие массы людей, семей и их пространственные объединения — поселения. В поле зрения исследователей семьи факты из жизни отдельных семей попадают лишь постольку, поскольку из них складываются совокупные результаты, массовые процессы в населении.
|
|
Заниматься поиском фундаментальных законов? — упаси бог! Довольно голой, поверхностной, абстрактной эмпирии (следует длинный перечень "факторов" — и общий вывод:
|
Именно названные факторы, а не социально-экономические условия как таковые, определяют результаты репродуктивного поведения на уровне конкретной семьи.
|
|
Чтобы сразить наповал — цитата из раннего Маркса [3, 27–28] о том, что семья
|
должна тогда рассматриваться и изучаться согласно существующим эмпирическим данным, а не согласно "понятию семьи"...
|
|
Чем всегда славились идеологи капитализма — так это виртуозным умением подловить противника на ошибке, выхватить и выпятить самое кривое, сыграть на слабостях. Но кто как не Елизаров подменяет семью ее абстрактным понятием — сводит семейную жизнь к деторождению? Под это понятие он прогибает любые эмпирические данные — не говоря уже об общих соображениях: "демографическая информация" делится на "существенную" и "несущественную"; никаких пояснений, почему, например, продолжительность брака имеет вес, а "антропологические данные" идут в утиль — чисто авторитарное решение. Хотя, по жизни, демография очень даже зависит от антропологии (про сексуальность некоторых народов ходят анекдоты); чисто интуитивно, продуктивность в семье импотента (или кастрата) заведомо ниже, чем в семье здорового бугая, — а это как раз те самые, "несущественные" признаки! Вот и вся высокая наука.
О том, что статистические данные в экономике и социологии не отличаются согласованностью и надежностью — говорено многими и не раз. Елизаров это признает и сокрушается, что моделирование "может пока носить только гипотетический характер". Собственно так работают и признанные авторитеты (включая нобелевских лауреатов) западной "эконометрии" : набросать десяток формул повнушительнее (чтобы и производные там, и интегралы...), с кучей подгоночных параметров, — а потом рисовать графики разной замысловатости, с пояснением, что это лишь качественная картина — а в точности все мы будем знать, когда заставим всех жить по нашим правилам, чтобы удобнее было измерять. Примеры того, что Елизаров позаимствовал — сплошь в духе "регрессионного анализа"; это страшное ругательство означает лишь представление любых реальных зависимостей типовыми конструктами (чаще всего, произведение усмотренных "факторов" в каких-то степенях) и подгонку коэффициентов и степеней под фонарные критерии "оптимальности". То есть, о действительном изучении чего-то и речи нет, и вопрос "почему?" отметается как демагогический.
: набросать десяток формул повнушительнее (чтобы и производные там, и интегралы...), с кучей подгоночных параметров, — а потом рисовать графики разной замысловатости, с пояснением, что это лишь качественная картина — а в точности все мы будем знать, когда заставим всех жить по нашим правилам, чтобы удобнее было измерять. Примеры того, что Елизаров позаимствовал — сплошь в духе "регрессионного анализа"; это страшное ругательство означает лишь представление любых реальных зависимостей типовыми конструктами (чаще всего, произведение усмотренных "факторов" в каких-то степенях) и подгонку коэффициентов и степеней под фонарные критерии "оптимальности". То есть, о действительном изучении чего-то и речи нет, и вопрос "почему?" отметается как демагогический.
Но у русских собственная гордость! — и Елизаров изобретает (от личного фонаря) "структурный коэффициент детности", выражаемый формулой странного вида:
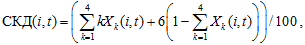
где Xk — "доля новорожденных очередности k". Очень содержательное рассуждение о возможности замены шестерки на семерку — не меняет общей странности... Понятно, что если что-то вычислить — с этим можно баловаться до бесконечности (вспомним про крыловскую мартышку с очками). Но где за этим реальные отношения людей? Нет их, абсолютный ноль.
Вероятно, такие абстрактные конструкции тоже возможно считать моделью чего-нибудь — но эта наука больше напоминает астрологию, нумерологию, и тому подобное шарлатанство. Конечно, на безрыбье хоть что-нибудь. Психологи давно используют "факторный анализ" по ответам на столь же фонарные опросники (типа теста Кэтелла) — и практики намастрячились угадывать явно болезненные комбинации. Возможно, и елизаровские веселые картинки на что-либо сгодились бы. Но, как показывает опыт, эконометрические и социометрические модели живут недолго: пока общество эволюционирует относительно спокойно, абстрактно посчитанные "факторы" и "коэффициенты" сохраняются — и дают повод для чересчур оптимистичных обобщений. Но в 1980-х и 1990-х в мире произошли радикальные перемены, уничтожившие не только социализм, но и выводящие из равновесия экономику развитого капитализма; при сохранении прежней, рыночной основы, характер отношений между людьми изменился — и прежние "модели семьи" годятся только на свалку, или в идеологическую кунсткамеру. Никаких перспектив у таких исследований семьи вообще нет.
* * *
Учение Паскаля (и прочих янсенистов) о том, что верить в бога следует даже без надежды получить гарантированное место в раю, — переходный этап духовного развития сразу в двух направлениях. Прежде всего, независимость божественной благодати от наших деяний ставит под вопрос саму идею: зачем нам то, что не может стать мотивом деятельности, — и что, следовательно, невозможно представить себе, а значит, и желать? Последовательный янсенизм отстраняет небеса от земных дел — переносит фокус на человеческую деятельность, дает практические ориентиры. Здесь и продолжение гностических ересей средневековья, выводящих бога за пределы постижимого мира и сам этом мир приписывающих замыслу некоего, далеко не божественного творца, — так что и творение далеко от совершенства, и не грех его подправить нашей волей, подвести под человеческие идеалы. Даже умирая, мы не выходим из сферы человеческих представлений, за рамки истории. Ничего кроме земной жизни человеку не светит — а с ней мы умеем разбираться лучше любых богов. Тем самым утверждается фундаментальный принцип: нет иного духа, кроме человеческого, невозможно любить никого, кроме людей. Это не атеизм — как противоположность религии и, следовательно, тоже религия; это отсутствие идеи религиозности, неуместность постановки вопроса о недоступном человеческому разумению — и границах творчества.
Но есть и другая сторона. Бескорыстная вера — подрывает устои классового общества, отменяет корысть как таковую, отказывая ей в божественности. По жизни, нам не дают видеть в другом просто человека, разумное существо; нам вынуждают относиться к людям по-животному, как к объекту: это лишь нечто полезное или вредное, что надо присвоить — или преодолевать. Соответственно, и других мы всегда подозреваем в недобрых намерениях, и всякая радость для нас — лишь отсутствие бед. Чтобы не оскотиниться вконец, человек изобретает абстракцию невозможного бога — который принципиально неспособен вмешаться в наши дела, и потому заслуживает совершенно искренней любви. Это религия наизнанку, пощечина иезуитскому корыстолюбию. Это своего рода тренинг, культивирование умения любить другого за то, что он есть — и уже этим (и только этим) необходим нам. Остается только выкинуть из жизни ее надменных хозяев — и переименовать бога в человека, быть вместе с людьми, а не против них.
* * *
Жерар Ленорман пел о счастье: Les jours heureux, La ballade des gens heureux, Heureux qui communique... Как будто пытался приворожить, убедить себя в собственной счастливости. Но абстракциями счастлив не будешь: сколько ни говори "халва" — во рту слаще не станет. Слишком беззубое счастье — как старикан, одной ногой в могиле. Безмятежность чужда разуму, погруженному в мир, полный проблем. Где иной раз подло быть счастливым — и надо долго делать счастье, прежде чем насладиться им. Но делать не себе — любимым.
А что вместо? Всего лишь vivre à deux — мещанский рай, противопоставленный остальному человечеству. Почему не à trois, или à dix? Варианты все той же семейственности. По жизни, счастье там, где и не жить дано вдвоем — и нельзя иначе. Только тот кто умирает вместе с любимыми, остается жить в любви навсегда.
Конечно, хорошо бы всем вместе жить, и любить друг друга. Это христианское примиренчество. Смерть любви в планетарном масштабе. Вероятно, когда-нибудь и в самом деле можно будет принимать каждого как есть, видеть в нем всех без исключения. Но тогда не станет и личного счастья, и жизни вдвоем, — и само различие жизни и смерти забудется, растворится в более разумных трудах.
* * *
А. Лоуэн, Предательство тела:
|
Тело попадает в услужение образу и становится инструментом воли. Человек отчуждается от реальности собственного тела. Отчужденные индивидуумы создают отчужденное общество.
|
|
Еще один великолепный образчик буржуазной пропаганды! Классовое сознание в супер-концентрированном виде: одна капля убивает разум.
Все на ушах: при такой постановке вопроса причины отчуждения остаются за бортом — и "образ" выглядит мистической силой, вне всякой реальности: он влияет на абстрактного человека оттуда, из потусторонних бездн, бесконечно далеких от реальности.
На деле все наоборот: общественно-экономическое устройство, основанное на всеобщем разделении труда, порождает всеобщую отчужденность, вплоть до отчужденного отношения к себе (первый пример — продажа рабочей силы, отчуждение себя от себя). Человеку приходится следовать законам классового общества; но отнюдь это не его воля — это воля господствующего класса, система подавления воли масс, принуждения, порабощения, превращения в "говорящие орудия". Такое общество воспитывает в людях не человеческую, а рабскую психологию, не ментальность, а инструментальность. Раб не принадлежит себе — им распоряжаются хозяева. Нет у него "собственного" тела — отсюда и отчужденное, и небрежное, и враждебное отношение к этому куску мяса. Точно так же раб относится и к своему неорганическому телу (к условиям и орудиям труда): ему плевать на культурность, он представляет антикультуру. Низы не осознают этой ущербности; верхи ее остро чувствуют — и боятся.
Всевозможные "образы" (культурные предписания, стереотипы, законы и догмы, и т. д.) — продукт классовой экономики; они намеренно воспроизводятся в обществе, для этого имеются особые общественные институты. Борцы за свободу — следуют той же логике: сбиваются в партии — и не освобождают человека от догм, а лишь заменяют одну догму другой. Здесь корни разочарованной аполитичности, которую бесполезно убеждать — и работают лишь эффектные рекламные трюки, рассчитанные на тупые тела. А потом надоедает и суета.
Классовый человек в услужении не у "образа", а у другого человека. Стоит ему сбросить ярмо в каких-то отношениях — безразличие тут же испаряется, и просыпается интерес к телам — но не "собственным", а тем, которые нужны для дела, которые способны представлять свободу личности, становиться ее действительной (и действующей!) плотью. Сведение этого порыва к органике — попытка укротить бунтарей, подсунуть им что-то одно вместо необъятности мира и разнообразия культурных реалий. Собственническая психология: вот вам ваше — и не трогайте чужого. У разума нет ничего чужого, и ему не нужно никакой собственности. Поле деятельности человека разумного — мир целиком.
Классовое воспитание — диктат верхов, господство "старших" над "младшими" (по должности, а не по возрасту); классовая школа — это школа рабства. Та же система и в семье: родителями положено играть роль родителей, дети обязаны слушаться и терпеть. Когда мы играем в игры по намеренно принятым правилам — это уже ограничение и угроза для ослабленной внешними воздействиями психики; если же правила приходят извне и не подлежат критике — это гарантированный невроз. Однако свихнувшееся на рынке общество признает только такую нормальность — и считает психически больными тех, кто не желает (или не способен) подчиниться — у кого мозги недостаточно промыты, и в них копится невыгодная власть предержащим идеологическая "грязь". Технология превращения мнимых больных в законченных психов — жесткие поведенческие рамки, смирительная рубашка, психотропные вливания. Не только в буквальном смысле: посадить на иглу можно и экономически, и психологически, и методами косвенного убеждения (морального насилия) — и, конечно же, средствами искусства, науки, классовой педагогики.
* * *
Jaques Prévert, Au grand jamais :
Tout ça n'existe pas
je veux que tu m'aimes
et que tu n'aimes que moi
mais je veux que les autres t'aiment
et que tu te refuses à elles
à cause de moi
|
|
Быть любимым — значит, любить. Хотеть любви — значит, дарить любовь. Но хотеть, чтобы другие любили, — это вершина любви, глубокая убежденность в своей неповторимости, незаменимости, невозможности заменить одну любовь другой. В этом и состоит отказ — а вовсе не в отвержении и воздержании: ничем себя не ограничивая, оставаться верным любимому человеку, — оставаться собой до такой степени, чтобы не существовало самой идеи измен.
* * *
Когда ученые демографы изыскивают средства для управления производством органических тел — их интересуют только тела как таковые, болванки, в которые потом предстоит закатать какие-нибудь полезные начальству функции. Предполагается, что для нормального движения экономики (а при удачном стечении обстоятельств и развить что-нибудь не грех) требуется энное количество органических движков, способных задействовать наработанные тысячелетиями технологии. Логичный вопрос: а почему нельзя поступить наоборот? — и больше не почковаться под способ производства, а сознательно поменять его так, чтобы количество органики особой роли не играло? В этом случае следовало бы конструировать вовсе не демографические модели, а науку об открытиях и изобретениях — плюс технические средства для всенародного овладения этими знаниями и повсеместного внедрения любых новинок, без малейшей заботы об авторских правах и формах собственности.
Ничего подобного. Компетентные товарищи (вроде В. В. Елизарова) предлагают стимулировать рождаемость,
|
активизировать механизм демографической пропаганды, рекламы (в буквальном смысле слова) образа жизни трехдетной семьи и ее реальных преимуществ перед одно-, двухдетными семьями.
|
|
Привить населению неудержимую потребность размножаться во имя каких-нибудь вышестоящих интересов.
Тут у нормального человека возникают вопросы по существу. Когда автор заявляет, что "дети — объекты, удовлетворяющие, как и другие объекты, потребности человеческой личности", без альтернативной лексики обойтись трудно: до каких же пор (тудыть вас растудыть!) мы будем относиться к людям как объектам?! Когда кого-то со страшной силой тянет произвести кусок живого мяса (испытав при этом широкую гамму приятных и неприятных ощущений), это, извините, не человеческая потребность, а животная импульсивность, неспособность трудиться культурно, сообща. А если ребенок не хочет рождаться? — неплохо бы поинтересоваться мнением. Какого, пардон, хрена мы себя величаем личностью — а ребенку в этом безоговорочно отказываем?
То есть, человеку как разумному существу приличнее производить не мясные полуфабрикаты, а новую личность, — что не только не требует репродуктивных телодвижений, но местами даже полезнее вовсе обойтись без них.
С другой стороны, если обществу для чего-то нужны особи определенного биологического вида — так почему не производить их индустриально, не спихивая дело на недостаточно грамотных и не всегда социально ответственных кустарей? Тело производит не семья — это результат инкубации оплодотворенной яйцеклетки, что в кустарных условиях требует полового акта и антигуманной пытки женщин муками беременности и родов. Уже сегодня оплодотворение вполне возможно на конвейере, и никакие семьи для этого не нужны. Инкубация вне биологического тела пока под вопросом — но больше по причине формальных запретов, нежели технической неосуществимости; опять же, никто не мешает считать суррогатное материнство одной из многих специальностей — и если у кого-то имеется к тому призвание, пусть трудятся в специально обустроенных заведениях, с использованием новейших технологий, — опять же, при чем здесь семья?
Нет, конечно, кто-то увлеченно копается в огороде, держит на даче поросенка, и куры по двору бегают... Но, положа руку на сердце, общественная ценность таких подсобных хозяйств равна нулю (и даже немножко меньше): основная масса пользуется продуктами крупной индустрии — и только этим большевики вытянули из грязной дыры экономику послереволюционной России. Продвижением передовых агротехнологий. Так что зазорного в индустриализации разведения других зверушек? Получается, что нужна не демографическая политика, а демографическая инженерия, промышленная демография как отрасль народного хозяйства. Тогда можно строить и планы, и прогнозы.
Заметим, что речь вовсе не о детях — а только о телах. Как именно их использовать — другой вопрос. В частности, можно приспособить к обслуживанию участия той или иной личности в материальном и духовном производстве, в творческом общении. Тогда потребуется еще одно производство — социализация органических тел, оснащение их неорганическими компонентами, необходимыми для участия в самых разных деятельностях — и чем универсальнее, тем ближе к разуму. Возможно, потом найдутся и другие применения — не будем фантазировать. Но и для социализации семья — слишком примитивный инструмент, хотя, конечно, и здесь имеется какой-то простор для народных промыслов.
Спрашивается, зачем нормальному свободному человеку какая-то потребность в детях? У него что, других дел нет? Возможно, кому-то оно интересно — на здоровье. Остальные будут заниматься тем, что им ближе, — и не надо им никакой пропаганды и рекламы: они действуют как разумные существа, а не бегают от кнута пастыря или за блескучими фантиками.
В качестве побочного навара, приятно хотя бы, что, по-елизаровски, "дети не являются естественно-биологической потребностью". А то уже достали сопливые вздохи в советской и антисоветской литературе по поводу "настоящих женщин", которые без этого никуда. А заодно и про настоящих мужиков, которым по рангу положено сына родить (и убить тысячи чужих сынов). Вторая вишенка — необходимость воспитания потребностей, их принципиально человеческое происхождение, — даже там, где, казалось бы дело идет о поддержании жизнеспособности биологического тела, о чистой физиологии. Конечно, воспитание понято в классовом духе, как навязывание сверху, диктат государственных (классовых) интересов. Однако этого достаточно, чтобы осознать возможность и настоящего, по-человечески общественного воспитания там, где никто ни у кого на шее не сидит.
Совсем пальцем в небо — про "реальные преимущества". Сам же расписывает, как дитя вводит в "прямые экономические затраты" и наносит "косвенный ущерб", как оно требует лишних трудов, гробит время, не дает культурно расти, и "даже отрицательно действуют на состояние здоровья и продолжительность жизни родителей"! Короче, "выращивание детей — предприятие убыточное". Безусловно, истинного любителя это не остановит: например, домашняя еда обходится существенно дороже магазинной; но если кому-то нравится кулинарный процесс — почему не потратиться, не побаловать себя любимого? Насчет вкуса и пользы — бабушка надвое сказала; но в качестве хобби — почему бы и нет?
Тут, правда начинается групповое изнасилование логики — под предводительством некоего Ф. Энгельса, мастера опошлять (пардон, популяризировать) разумное содержание марксизма:
|
Современные расчеты показывают, что каждый "средний" новорожденный "выгоден" обществу.
|
|
Расчеты сводятся к тому, что вычитание бытовых затрат из стоимости произведенного за всю жизнь полезного продукта дает положительное сальдо — и в больших масштабах прибыль весомая. Ранний Энгельс точнехонько в строку [1, 265]:
|
... каждый взрослый человек может произвести больше, чем он сам потребляет, — факт, без которого человечество не могло бы размножаться, более того, не могло бы даже существовать; иначе чем жило бы подрастающее поколение?
|
|
Сразу же нездоровый душок: почему, собственно, мы должны вечно работать на кого-то, произрастающего на наших костях? Все произведенное можно было бы потратить и на себя — обеспечив себе жизнь вечную... Тогда и размножаться незачем — достаточно уже размноженного. На самом же деле, пропаганда трат на подрастающее поколение — фиговый листок поверх более серьезного (и далеко не столь приличного), классового интереса: если человек производит больше, чем ему самому требуется, — "излишек" можно отнять и поделить; в марксизме это называется эксплуатацией — а растущие аппетиты эксплуататоров напрямую требуют по максимуму урезать якобы теоретически обоснованный уровень достаточности, так что работяге не остается даже пояса для проделывания новых дырочек; его мнением, естественно, никто не интересуется — а к дележу прибавочной стоимости его не подпускают, там свои профессионалы... Оказывается, что интересы "подрастающего поколения" представляет правящий класс, который точно знает, сколько требуется населения, чтобы не уменьшать норму прибыли. Энгельс, сам того не замечая, оказывается в рядах критикуемых им мальтузианцев.
Но Елизарову такая постановка вопроса по сердцу — и он кусочками цитирует и последующее рассуждение [1, 266]:
|
Но если это факт, что всякий взрослый человек производит больше, чем может сам потребить, что дети подобны деревьям, с избытком возвращающим произведенные на них расходы, — а ведь это все факты, — то надо полагать, что каждый рабочий должен был бы иметь возможность производить значительно больше того, что ему требуется, и потому общество должно было бы охотно снабжать его всем необходимым; надо было бы полагать, что большая семья должна быть для общества весьма желанным подарком.
|
|
Оставим пока в стороне логическую нелепость увязывания организации труда (в любой отрасли) с семейственностью. Но пардоньте! — в классовом обществе (включая социалистическое) интересы общества не совпадают с интересами его членов; более того, между ними (по словам Елизарова) "налицо противоречие". Спрашивается: почему выгода для общества должна возбуждать детородную потребность в отдельных репродуктивных единицах? Чего ради я буду делать обществу дорогие подарки? Если мне оно по факту не требуется (и даже вредно) — никакой силой не сделать меня фанатом демографии; конечно, государство вправе (поскольку оно распоряжается правом) заставить меня плодиться и размножаться — но это, по логике, не следовало бы называть потребностью. И не надо нам неприлично голой эмпирии:
|
... как мы знаем, редкая семья остается бездетной, а многие имеют большое количество детей и видят в этом смысл жизни.
|
|
Потому что мы также знаем, какими методами людей принуждают не только поступать по указке сверху — но и считать это пределом своих мечтаний. Если мы делаем так, чтобы часы показывали время, а ракеты летали в космос, — это вовсе не потому, что у них есть на то потребность или глубокое внутреннее убеждение; общество в лице государства (то есть, не все целиком, а только господствующий класс) делает людей всего лишь винтиками экономического механизма, использует их как живые и неживые вещи.
Опять же, по логике, раз обществу что-то надо — пусть общество об этом и позаботится; производство детей в таком случае следовало бы перевести на индустриальные рельсы, и покончить с деторождением в кругу семьи. Не нужна ни трехдетная, ни многодетная семья — нужны заводы и фермы по выращиванию нового поколения. Любителям повозиться с детишками — пожалуйте в трудовой коллектив! Хочется творить кустарно — только в согласии с общественными ориентирами. Потому что здесь вопрос о воплощении духа (то есть, установлении вполне определенных общественных отношений) — и не всякие тела для этого сгодятся.
Уничтожение классов устраняет и противоположность личности обществу, и вместо конфликта интересов — единство. Если человек сличает разумным принять участие в каких-либо демографических проектах — это вовсе не потому, что того требуют интересы экономики или его внутренние репродуктивные позывы: человек свободен и от внешнего принуждения, и от рецидивов животности. Соответственно, общественный характер производства делает новых членов общества не отпрысками конкретных персон — а всеобщим продуктом, такими же людьми, как и все остальные; это накладывает отпечаток на характер социализации, делает ребенка обычным членом общества — и снимает различие между поколениями как таковое. Елизаров справедливо указывает, что "потребность в детях" — лишь пережиток отмирающего способа производства, когда дети становятся либо "домашней рабочей силой и источником доходов" — либо "источником материального обеспечения в старости и в случае утраты трудоспособности". Уберите рынок, дайте всем равный доступ к общественному достоянию — и не играет ни малейшей роли, с какими именно телами будут связывать личность на каждом историческом этапе.
* * *
Французский философ Азаис считал, что все люди имеют одинаковое право на счастье (которое, впрочем, для него остается всего лишь удовлетворением потребностей). Но для этого люди должны были бы и рождаться равными — как в телесном, так и в общественном плане. Однако при таком равенстве — зачем бы люди нуждались друг в друге? Более того, они даже не смогли бы друг друга различать — и не было бы ни юности, ни старости, ни взаимоотношений полов! А человек изначально создан (неким высшим существом) для жизни в обществе, и должен поддерживать существование человеческого рода; поэтому прирожденное неравенство неизбежно и необходимо: без него нет никакого общества — и остается только компенсировать его разного рода справедливостями...
В общем-то верный ход мысли — но буржуазная ограниченность мешает сделать следующий, решительный шаг и задаться вопросом: кому и зачем нужно, чтоб люди нуждались друг в друге? — зачем нужно одних отличать от других? Может быть, счастье в том и состоит, чтобы вообще не задумываться о таких материях — не сравнивать себя ни с кем, и потому оставаться единственным и неповторимым?
Догадка о распространении идеи равенства на возраст и пол — это настолько революционно, что никому после Азаиса в голову так и не пришло (две сотни лет!); за одно это не жалко отдать улицу в Париже (хотя бы и совсем крохотную, без единого дома). К сожалению, и ему оно открылось только в отрицательном смысле: дескать, нехорошая это логика... Но что плохого? Пусть люди будут просто людьми — и каждый по-своему участвует в общественном труде. Какая разница, сколько лет куску органики? — мы все частицы вечности! — и мы делаем эту вечность. Что же касается пола — тут вообще все относительно; но бонапартист Азаис, конечно, замученного маркиза не одобрял.
Нет уж! если по логике — так давайте до упора: не надо выдумывать "природное" уродство, чтобы потом его изо всех сил компенсировать; выпрямлять искривленное — лишний труд: проще сразу сделать прямо. Изобретение культурных волн (позже разрекламированных Чижевским) вполне годится в качестве (буржуазно-)социологической теории; но такая эмпирия — преувеличение значимости известного на данный момент, уступка природе и отказ от разума (задача которого как раз в том, чтобы не возводить случайность в закон — а произвольно менять и отменять законы).
* * *
Мирандола, Комментарий к "Канцоне о любви":
|
... это не что иное как желание насладиться и обладать красотой другого, из чего следует вывод, что любовь бога к своим творениям, а также то, что мы называем дружбой, и многое другое отличны от любви, о которой мы ведем речь, и совсем к ней не относятся...
|
|
Другая логика: богу не нужен мир (ни этот, ни тот) — значит, бога нет. Конечно, "насладиться и обладать" — дикий менталитет собственника. Только для таких дикарей на первый план выходят внешние различия, заслоняют собой любовь — и тогда она выглядит "многим другим".
|
... поскольку любовь к чему-то означает желание обладать красотой другого и так как у бога нет желания владеть чем-либо, находящимся вне его, ибо он является совершеннейшим во всем и ни в чем не нуждается, то для него слово "любовь" было бы самым неподходящим. То, что бог испытывает к творениям, порождается совершенно иной причиной. У любящего есть потребность к любимой вещи, и он получает от нее свое совершенство, в божественной же любви любимый имеет потребность в том, кто любил бы, а тот, кто любит, дает, но не получает.
|
|
Идеология Возрождения — причудливая смесь ереси и маразма. Бог выведен за рамки рынка — смелость раннего буржуа: земные делишки мы будем обделывать сами, и никакие боги для этого не нужны. Более того, бог, оказывается, не может быть собственником (не имеет к этому ни малейшей склонности) — и мир (который "вне его"!) ему не принадлежит: все богово имущество — его внутренние дела, людям непостижимые, — но нам до них и дела нет. Если бы мир был в боге — это можно было бы (с некоторой долей условности) считать обладанием, и любовь такому богу была бы не чужда...
Но бог никого не любит — просто не умеет. Обделенный любовью, он остро нуждается в утешении. Земные любовники получают друг от друга свое совершенство — а бога совершенствовать некому. Вот он и скулит с небес: люди! ну полюбите меня — хоть капельку! А они ему: пошел ты... — у нас тут биржа, и фрахт, и концессии... — не путайся под ногами. Бог обижается, пытается принудить к любви через свою агентуру, — но и церковники больше думают о выгодном вложении капитала, нежели о божьей душе. Опять же: насильно мил не будешь.
Тогда бог звереет:
— Ах так! Ладно, пусть и вы будете мне подобны и потеряете пламя любви, и будете умолять рабов ваших простить вас и утешить.
И стало так. Буржуа считает женщину вещью, секс-имуществом, рабыней и наложницей; ей положено ублажать благоверного и собой заниматься лишь ради его наслаждения обладанием: его товар таки не хуже конкурентов! Но в душе пустота — и никакие рыночные ценности не сравняться с совершенствами той, кого он третирует как последнюю шавку, отгоняет, как назойливое насекомое. Что же получается? Вроде бы успешный деляга — не может купить то, что в избытке у безотрадной нищеты, и чем она иногда делится с кем-то лишь потому, что невозможно не поделиться любовью. Почтенные обыватели торопятся обзавестись, утешительницами и музами, кому сколько достанется; песнями и дарами пытаются задобрить, умаслить, приручить... Купеческую любовь объявляют божественной — смутно подозревая в любви нечто выше себя, вне рыночного мира — то есть, по рыночным понятиям, вне мира вообще.
Приукрашивать действительность — занятие недешевое. Конечно, красивую вещь можно купить; но красоту — купить нельзя. Странным образом, спрятанное в сейфе тускнеет и теряет притягательность; только открывая себя всему миру оно становится прекрасным — для тех, кто не спрашивает о цене. Так же и любовь: она для меня только там, где она для других, — и дарить я могу лишь то, что мне не принадлежит.
* * *
Современное богословие (Мария Катерина Якобелли): если народ туп и не понимает ничего кроме мата — проповеднику положено материться в церкви — для большей доходчивости... Всякого рода скабрезности — путь к богу: сексуальное желание может стать элементом религии, ибо "оно есть нечто сакральное и предоставляет прекрасную возможность понять бесконечного бога".
Кто и зачем держит народ в тупости — о том пока умолчим. Существенна здесь все та же направленность мысли: от природного к божественному. Минуя человеческое. Бездуховность, убожество — верная дорога в рай ("ибо их есть царствие небесное"). Зато любая попытка освободиться от животности и послать подальше богов — от дьявола, и карать за это будут по всей строгости.
Объявляя физиологию "сакральной", церковь с порога отметает допустимость разумного воздействия на природные тела в интересах человека, для строительства по-человечески благоустроенного мира. Не положено рабам (конечно же, "божьим"!) наслаждаться жизнью: тела обречены на муки по божьему замыслу — чтобы хотелось на тот свет, чтобы пошлые поповские сказочки обозначили предел мечтаний. Поэтому и секс церковь поощряет лишь в его грязных, животных формах: как освобождение от указок сверху — это нельзя!.
В такой постановке, божественность есть лишь другое название животности — и бесконечное (без малейшего просвета) прозябание в тупой нищете вполне годится для обозначения идеи бесконечного бога.
Человеческое не "между" природой и богом — оно просто другое, ничего общего не имеющее с низменным скотством и мистическими вывихами. Разумный человек не придает особого значения ни одной из телесных форм — для него все они лишь орудия труда, внешние условия для деятельности: не будет чего-то — изыщем возможность сделать иначе, из другой материи. Поэтому и человеческие идеи — не догма, а руководство к действию, и мы сами решаем, чем руководиться на следующем этапе; никакие начальники (земные или небесные) человеку не нужны.
Путь к человеку — через окультуривание природы; напротив, ее обожествление — барьер на пути к себе. Уход от грубости, хамства, пошлости — непременное условие обретения свободы. Все это путы и шоры, которые правящие круги впаривают массам ради удержания их в слепом повиновении; богословские (и философские) оправдания — в расчете на дикарей. Но дерьмо в любом фантике остается дерьмом, и одна ему дорога — в канализацию, в процессы глубокой переработки — после чего на выходе таки будет телесная и духовная чистота.
* * *
Ларошфуко, 49 :
|
On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine.
|
|
Счастье и несчастье нельзя придумать — счастливым или несчастливым надо просто быть. Едва человек начинает что-то себе воображать — он забывает о себе и переселяется в мир фантазий, которые, конечно же, гораздо убедительнее незаметной действительности.
* * *
Ламетри, Трактат о душе:
|
Любовь и ненависть — две страсти, от которых зависят все остальные.
Идеи, не возбуждающие ни радости, ни печали, называются безразличными, как, например, представление о воздухе, камне, круге, доме и т. п. Но, за исключением подобных представлений, все остальные связаны с любовью или ненавистью, и в человеке все дышит страстью.
|
|
Заблуждение — противопоставлять любовь чему угодно (обычно — ненависти). Старинный предрассудок классового мышления: борьба противоположностей. А любовь для того и нужна, чтобы снимать противоположность — она вне всех противопоставлений.
Даже в неживой природе "диалектика" противоположностей — самое грубое приближение, выпячивание нашего отношения к предмету вместо постижения предмета во всей его многогранности. Например, физика: притяжение и отталкивание — частные случаи взаимодействия, и взаимодействие представляется нам таким лишь в особых условиях.
Еще одно ("метафизическое") заблуждение — деление идей на абстрактные ("безразличные") и "страстные". Противопоставление внешнего (отчужденного) и внутреннего (личного). Тогда как в любви мы страстно относимся к внешнему и порой забываем о себе.
Всякая идея предполагает страсть; иначе она просто не нужна. Но страсть вовсе не обязательно выставлять напоказ: она бывает скрыта за кажущейся отчужденностью. Это может быть и намерением, игрой, маской; но чаще — следование идее любви, избегание грубых различий, броских красок и навязчивых форм. Точно так же, ненависть — маска любви, способ продолжить мир вопреки его неразумности.
* * *
Иоганн Гейлер фон Кайзерсберг в конце XV века проповедует:
|
... распутство противно природе, а также запрещено естественным законом: чего не хочешь, чтобы делали тебе, не делай и другому. А ведь никто не хочет, чтобы с его женой развратничали... Воровством похищают у ближнего его добро и деньги, а прелюбодеянием — его благочестивую жену.
|
|
Забавное допущение о возможности совратить благочестивых (в чем тогда состоит благочестие?) — это лишь попутная пикантность. Жена как имущество — тоже в порядке вещей (то есть, далеко от разума). Что в средние века предоставление жен (а также прочих особ женского пола) гостям в качестве гостеприимного жеста есть старинная традиция — проповедник забывает. Но самое интересное в другом: пресловутый категорический императив объявлен природным законом — и к человеческой этике он не имеет, оказывается, никакого отношения! Здесь поп идет против других попов, выдвигающих тот же принцип как библейскую заповедь, завет свыше — предназначенный усмирять дикую плоть, а вовсе не следовать ее позывам. И у Платона, и у Канта — этика выведена за рамки этого мира; именно отсюда старая традиция выводит главенство духа над плотью. А тут открытым текстом: не нужно нам никакого духа — следуйте велениям естества, и все будет тип-топ!
Конечно, это жульничество и насилие над логикой: сначала мы наделяем природу качествами, которые нам хотелось бы усмотреть в людях — а после подаем общественные установления как зов плоти. Рафинированный вариант того же самого — аксиоматический метод современной математики: предмету математической теории изначально приписывают именно те свойства, которые собираются потом выставить как строго доказанные (и совершенно неоспоримые); переливание из одной тавтологии в другую — душа академической науки, но реальная наука, по счастью, не сводится к подведению результатов под догмат.
В том же XV веке (и еще несколько столетий после) церковь (за исключением слишком уж радикальных течений) противилась запрету борделей, шинков и балаганов — мотивируя это тем, что плотские утехи в природе человека, и дать им выход в общественно (и церковно) контролируемых формах полезнее, чем пустить дело на самотек и потом разгребать крамолу и усмирять бунтовщиков. Опять же, и доход от специальных служб — подспорье для духовных особ (деньги не грешат!) и оправдание их прямого участия в карнавальных выходках: а что? — поп тоже слаб и суетен, но у него блатняк на небесах, и заступники всегда найдутся, если мирские похождения не бьют по карману земные власти (включая церковные).
Метод выдавливания из человека всего человеческого одинаков во всех религиях: сначала мы сводим сознательную деятельность к ее внешним (вещным) проявлениям (в частности, к телодвижениям) — потом (совершенно резонно) указываем на природность полученной подмены — и для усмирения стихий предлагаем превратить их в ритуалы, "духовные" практики под пристальным наблюдением опытных наставников. То, что при этом остается от природы, объявляем изначально духовным — и тогда (официально допустимая) духовность человека легко выводится из этих "элементарных" идей (в форме культа, морали, права или еще чего-нибудь). Гейлер походя выбалтывает всю эту механику — но кто же поймет? Даже открытым текстом:
|
Ибо есть некоторые, кто общается со своей женой как неразумные животные друг с другом. А именно, если им захотелось что сделать со своей женой, они сразу и делают это, как если бы утоляли сою похоть и непристойность с другой. Это едва ли не больше, чем прелюбодеяние.
|
|
Граждане-человеки! Вы же таки не совсем животные — так будьте добры ориентироваться не на законы природы (типа категорического императива), и не на закон божий (благочестивая маска, разврат по правилам); нет, вспомните о том, что люди не просто трахаются (во всех смыслах) или пожирают друг друга, а по-человечески общаются. Нет у вас с женой такого общения — это хуже прелюбодеяния (так пусть будет хотя бы прелюбодеяние, чем вообще без любви).
Sapienti sat. То есть, не только о сексе и моральном разложении; не только о мужьях, женах и прочих соучастниках. Но и о некоторых деятелях искусства, науки или философии, коих партийные склоки загоняют в пасть эмпирионатурализма, человеконенавистничества.
* * *
Г. Я. Стрельцова, Судьба любви сегодня (1990).
Пошлость сама по себе — уже нехорошо, и на руку сколь угодно мерзкой реакции. Воинствующая пошлость — это уже клиника: значит, общество совсем не в себе, и не факт, что когда-либо вылечится...
Словесные красивости о величии и фундаментальности любви, которую выдвигают на роль основы всякой нравственности, можно было бы в конце концов проглотить (нет здоровой еды — питаемся чем попало); но когда все в русле махрового диссидентства, с прицелом на развал уже агонизирующей страны, — это подлая этика, и называть подлость любовью — кощунство.
Типичные сентенции эмпирионатурализма: человек — природное существо; человеческие чувств от условных рефлексов не отличить; любовь — всего лишь гарнир к сексу; секс — только для размножения; размножаться положено в браке...
Персональная фишка — неодолимая ненависть к разуму, который тоже надо опошлить, свести к неприлично голому рационализму, тупой рассудочности:
|
Иные рассудочные люди так просчитывают любовь, что от нее ничего не остается.
|
|
Оно и понятно: если вы записали человека в зоопарк, ничего кроме животного интеллекта от него ожидать не приходится. Но что должно таки оставаться? Интеллект — это плохо (потому что своего не хватает, а искусственный еще не изобрели). Зато примитивная реактивность безмозглых тварей — для фундаментальности в самый раз. Разумеется, под соусом мистики, непостижимости и абсолютной бесконтрольности:
|
прелесть чувств в их спонтанности, непроизвольности, раскованности, загадочности...
|
|
Мы не круглые идиоты! — мы загадочные!
Лозунг неразумности любви — противопоставляет ее разуму, клеймит "прямоугольную логику"; но вместо того, чтобы предложить иную, более разумную (не ограниченную никакими геометриями) логику — предлагается вообще от логики отказаться и раскованно болтаться в житейских случайностях, как щепка (или кое-что погрубее) в проруби. Романтика! Дикость.
|
... вместо того, чтобы довериться природе, разум стремится все подвергать своей "цензуре"...
|
|
Ай, как не стыдно обижать зверушек! Пусть они писают в тапочки — они же такие доверчивые...
Тут как раз и Паскаль подоспел: любовь, дескать, — особый порядок бытия, несводимый к разуму. Зачем вообще нужно кого-то куда-то сводить — нас не просветили; по любому, формальные подстановки — это не разум, и этим вполне способны заниматься простые механические устройства. Разговоры о "мудрости природы" — вообще от фонаря: идея мудрости приложима только к разумным существам, а у неразумных нет ничего кроме дикости.
Если же мы посадим наши фантазии нам на шею в качестве самосущих идей (или богов) — мы тем самым как бы делегируем им то, до чего пока не доросли. С одной стороны, это жульничество, попытка спихнуть с себя ответственность; другая сторона — признание необходимости расти, становиться разумными — даже из под палки. Пока мы дикари, любовь не только "нас выбирает" — но еще и погоняет, тащит на буксире, колет шилом в зад. Как еще расшевелить тупую природу, иных мер воздействия не признающую?
Финал всему — физиологический маразм: оказывается, что у женщин любовь — это "стремление стать матерью"!!! Крольчиха — куртуазный идеал. А люди — редиски: они бесцеремонно используют куриную любовь в кулинарных надобностях — а без яиц дамочку воздушным деликатесом не соблазнить — нет-с! Впрочем, по зрелом размышлении, и плодоносящих гуманоидов молох войны (или стихия рынка) пожирает почем зря: античные сюжеты по сравнению с этим просто невинный лепет.
Вероятно, главный вывод по поводу знакомства — о том, что круг чтения иногда портит голову. Особенно если подумать нечем. Нам доверительно сообщают, что
|
книги Сухомлинского — возвышенный и благородный источник по культуре любви.
|
|
То есть, одного из главных пошляков держат за образец. За компанию — "тончайший живописец души человеческой, Достоевский". Вообще-то, Достоевский главным образом живописал дикости недоразвитой России, способность уродливого общественного устройства загубить самые светлые души — так что кроме мрака в мире ничего и не остается. Мрачный сарказм великого писателя — неразумной твари ни понять, ни почувствовать. Однако вряд ли есть смысл рекомендовать к прочтению что-нибудь солнечное: в литературе и образцов-то кот наплакал — а из тех, кто на самом деле (а не для экзамена) читал Маркса, когорта исторических материалистов почти никем не приросла. Но даже заочное прикосновение — облагораживает: марксизм дарит мадам Стрельцовой чуть ли не единственную разумную мысль: ревность — порождение капитализма, пережиток рыночной конкуренции и животной борьбы за существование. При благоприятных условиях, людям таки захочется эту животность доистребить — и вернуть любовь к разуму и свободе.
* * *
Можно повторить вслед за Шамфором:
|
Скажи о любви любую нелепость — и она окажется правдой.
|
|
Этим уже (в отрицательной форме) выражена универсальность любви: ей до всего есть дело, и во всем она умеет усмотреть лучик разума. Но кто заставляет нас говорить о любви только нелепости?
* * *
После ужасов второй мировой человечество (в лице интеллигентов разной подпорченности) озаботилось проблемами настройки субъекта деятельности таким образом, чтобы никого не тянуло больше на массовые убийства и кулуарные истязания. Большинство идет по пути реформ, пытается изобрести такую педагогику, после которой народ тянуло бы в творчество со страшной силой — чтобы создавать, а не уничтожать. Но есть и ультрарадикалы, которые запустили к началу 1970-х движение антипедагогики: всякое воспитание вредно! Варианты разные; психоаналитическую струю представляет г-жа Алиса Миллер. Психоанализ у нее, конечно, не по Фрейду — нечто доморощенное. Например, если Фрейд говорил о "нормальном эдиповом комплексе", присущем каждому (буржуазному) человеку и лишь в особых ситуациях переходящем в невроз, — миллеровское понимание любую эдиповщину трактует как болезненное извращение — и ничего нормального в конкуренции поколений не усматривает. С чем, в принципе, можно было бы согласиться — в контексте принципиальной извращенности рынка (по Марксу [42, 150]) и необходимости замены капитализма чем-то поприличнее. Однако на такие приключения Алиса нас не зовет — и ее протесты напоминают шумные пузыри на болоте: пусть все остается как было — но у нас свобода самовыражения!
На первый взгляд, идея вполне прогрессивная: не надо прививать ребенку взрослые представления о действительности — пусть сам разбирается с миром и находит свое место в нем. Как только ребенка начинают воспитывать — это уже предполагает одностороннюю передачу стереотипов: от педагога к воспитуемому. А ребенок, дескать, и сам может взрослых многому научить. Тут мы согласны: современные детки порой выкапывают из компьютерных сетей такое, до чего взрослая просвещенность дойти постесняется. Антипедагогика предпочитает умалчивать о конкретике: им интереснее живописать ужасы, клеймить и обличать. Например, читая длинный перечень пыток, практикуемых швейцарскими родителями в отношении детей, можно удивляться, как вообще столь варварская страна может до сих пор существовать — и даже числиться в списке самых передовых обществ планеты! Чернуха — любимое средство манипуляции общественным мнением; всякие там кафки, солженицыны, куперы и хичкоки — исподволь подводят обывателя к сознанию первородного греха, изначальной порочности человечества и невозможности что-либо изменить, что автоматически провоцирует у населения две (одинаково животные) реакции: либо тупая покорность, следование господской воле, — либо анархия, полевое поведения без капли разума. Это в точности совпадает с методами "черной педагогики" по Миллер, книги которой становятся ярким примером того, что она же пытается отрицать.
Здесь еще и профессиональное: психоанализ возник как искусство навязывания пациенту воззрений терапевта, перевод его самочувствия на язык сексологических метафор. Аналитик упорно доказывает якобы больному, что все проблемы — от телесных неудовлетворенностей, от излишних ограничений "естества", от давления (классовой) культуры. Отсюда методы терапии: найти способ разрядки, регулярного сброса напряжения, — что на практике сводится к отключению разума, уходу (временному?) от социальной ответственности: снять боль наркотиком. Вместо того, чтобы делать человечнее общество, — убить человеческое в себе. Когда врач Миллер внушает клиенту (как минимум) критическое отношение к родителям и воспитателям (в ее терминах: чувство гнева), она манипулирует его сознанием ничуть не меньше, чем обвиненные во всех грехах манипуляторы детских лет: место одной догмы занимает другая. Садистические наклонности современной медицины — наш горький опыт, и касается это не только психотерапии и психиатрии. Значит ли это, что пора ставить врачей к стенке — и потом подыхать "свободно" и "естественно"? Отнюдь. Задача лишь в том, чтобы позволить пациенту разумно относиться к предписаниям медиков: это лишь их мнения, предложения, основанные на их опыте — который может быть применим в данном конкретном случае — а может и навредить.
Вернемся к баранам. Миллер (как и прочие ниспровергатели) не дает примеров сообщений "о законах жизни", которыми дети когда-либо одаривали бы своих родителей: то есть, мы допускаем, что они могут, — но случаев из практики не знаем, и обменяться полученными от детей необыкновенностями между нами взрослыми не в состоянии. Конечно же, это еще раз свидетельствует о взрослой заскорузлости — вроде как отсутствие сигналов от инопланетян связано исключительно с нашими технологическими недоработками, а вовсе не с возможной холодностью инопланетных товарищей (которые, конечно же, есть и во всем похожи на нас!) в отношении установления внешних контактов. Единственный намек — упражнения на развитие эмпатии; что это такое и зачем она нужна, мы не знаем — но вчувствоваться таки надо, полагая, что тем самым взрослые воспринимают именно эмоции ребенка, а не то, что принято таковыми считать. В конечном итоге выясняется, что эмпатия нужна только для поддержания раппорта — которые возведен в абсолютную ценность сам по себе и ни к чему на практике не прикладывается.
Нас призывают уважать ребенка (в чем это выражается?), соблюдать его права (кто их устанавливает?), понимать его чувства и потребности (как будто они встроены в него изначально, а не складываются по ходу общения). Для этого будьте готовы глубокомысленно наблюдать (и только?) за поведением ребенка, чтобы проникнуть в его сущность, прочувствовать собственную ущербность и оплакивать (!) свое детство, и, наконец, понять законы внутреннего мира ребенка, который, якобы, намного стройнее взрослых миров, ибо целиком держится на силе (читаем: неумеренности) и искренности (читаем: импульсивности) ощущений (то есть, чисто животных реакций, не принимающих в расчет культурные реалии). В переводе: вместо общения с ребенком как разумным существом — мы должны потакать животным позывам и опускаться ниже первобытности.
Правоверный антипедагог тут же обвинит нас в предвзятости и склонности к насилию; но давайте спросим: не ведет ли искусственная изоляция ребенка от взрослой жизни (пусть даже пропитанной звериной жестокостью) к ограниченности и неразвитости — к неспособности вести себя по человечески (то есть, в соответствии с достигнутым на данный момент уровнем культуры)? Ограничивая опыт общения слащавым сюсюканьем, вы втискиваете ребенка в рамки определенной (и очень буржуазной) идеологии — духовно насилуете его.
Миллер говорит о воспитании как "вынужденной самообороне" взрослых. Они якобы сопротивляются детской естественности и тем самым идут против собственной природы. Что подразумевает вредность всякой культуры, ненужность разума. Кому вредно и кому не нужно? Очевидно, рабам — которых надо до последнего держать во тьме, для их же рабской пользы. Антипедагогика смыкается с черной педагогикой — это стороны одного и того же, классового насилия.
Говорить об антагонизме, об обособлении и противоположности социальных групп, возможно только в условиях классового общества, в экономике всеобщего разделения труда. Миллер не замечает, что сама постановка вопроса о конфликте поколений, сталкивающая лбами злых взрослых и ангелочков детей есть выражение классового подхода к человеческим отношениям, ложь буржуазного индивидуализма, когда каждый хорош или плох сам по себе — а эксплуатация человека человеком, встроенная в способ производства, вроде бы и ни при чем. Индивидуалистически понятому человеку не остается ничего, кроме животной борьбы за существование — вечной вражды всех со всеми.
Если же полагать, что человек не сводится к биологическим телам, что его сущность — совокупность всех общественных отношений, — возникает другая педагогика, в которой не одни индивиды воспитывают (эксплуатируют) других (пусть даже взаимно), а общество в целом создает такие условия, в которых природные тела начинают двигаться заведомо неприродным образом, выражая (воплощая) движения духа. Таким образом, речь уже не о частных лицах, навязывающих (столь же частные) стереотипы другим, а о всеобщем процессе социализации, приобщения всех без исключения членов общества к общей для всех культуре (включая культуру творчества, развития культуры). Нет больше взрослых и детей — есть просто люди, которые учатся быть вместе и трудиться вместе. Становиться разумными — совместными усилиями. В рамках этой деятельности мы сообща воздействуем на вещи и органические тела, в которых реализуется наша духовность, наши личности. И мы воздействуем на них как на любые другие природные сущности (объекты), приводим в соответствие уровню культуры, выдавливаем из них дикость, игру стихий, — делаем осмысленными. Создаем наше (органическое и неорганическое) тело как общественный продукт. Отношения между личностями не сводятся при этом к отношениям тел, а, наоборот, личность одухотворяет тела — любые, без подразделения на своих и чужих. И если вместо разума — духовное уродство, дело тут не в частностях воспитания, а в организации общества в целом, которое допускает возможность подобных извращений. Эту организацию и предстоит менять. Всем. Сообща.
* * *
Газета Советская Россия от 23 ноября 1984, с. 2
Где работать невестам (В. Иванов, В. Михайлов, В. Ситников)
Достаточно прочесть заголовок — и уже ясен уровень вульгарности тогдашней прессы. Никого не заботит доступность культуры рядовым гражданам — и плевать на духовные запросы. Любой ценой остановить утечку кадров из села в города — и подстегнуть сельскую демографию. Предполагается, что при наличии сколько-нибудь приличной работы народ не рискнет все бросить и двинуться на поиск лучшей доли. Город переселенцев не встречает с распростертыми объятьями. Лимита — нескончаемый фильм ужасов: казарменное существование, никаких прав, никакой социалки, прохожие шарахаются, — и работать без норм, где поставят, за гроши... Брак — чуть ли не единственный шанс записаться в местные. А после — можно и развестись, и пристроиться как-нибудь. Здесь у сельских девиц явное преимущество перед мужиками. Брак позволяет получить (хотя бы временную) прописку, открепиться от обязательств (вроде целевого обучения — с возвращением в родные места), даже встать в очередь на жилье (хотя бы в коммуналке). Соответственно, начальство ставит задачу: удержать девиц — пообещать побольше, да пустить в оборот. Но на скотоводство или агротехнику ведутся не все (при нашем-то уровне технологий!). Значит, искать полегче, чтобы чисто-культурно.
|
Семнадцатилетней девушке и профессию надо предложить соответственно ее возрасту — девичью.
|
|
А если она далеко уже не девушка, и даже с дитем?
|
Не важно какую, только бы она ей нравилась, только бы удержать ее в родной деревне.
|
|
Тут извините-подвиньтесь! Можно подумать, на селе огромный выбор, и каждому найдется дело по душе. А по факту — приткнуться-то некуда. Ну, секретаршей в управу, библиотекаршей или в детсад... На худой конец продавщицей. Но тут позиции штучные — и местов давно нет. При том, что работа должна таки быть источником дохода — а с этим у женского персонала вообще швах.
Но давайте пофантазируем. Пусть все перевернулось вверх дном — и теперь на первом месте уже не работа, а доход (в смысле обеспечения всем необходимым). Предложите девице хороший оклад просто так, за проживание в деревне, — плюс надбавки за дружбу с местными парнями и тем более за рождение ребенка (которого община тут же обеспечивает всем необходимым, за народный счет). Создайте девушке нормальные жилищные условия — и пусть она гуляет по лугам и лесам в свое удовольствие, изображает счастливую дачницу. Добавьте возможность время от времени смотаться в город на шопинг (или по культурной надобности). На хрена тогда девчонкам искать городской редьки? Скорее, они мужиков из города переманят на вольные хлеба. А потом и пристроятся к какому-то из сельских дел — если все стремятся их неуклонно облагораживать.
Этот мысленный эксперимент — прототип бесклассовой утопии, где людям уже не надо горбатиться за кусок хлеба и крышу над головой, — где они имеют доступ ко всему культурному достоянию безо всяких бумажек — просто потому, что они люди. Люди там не работают — они трудятся. У них нет профессий, они делают что могут и как могут, и учатся в процессе. Не по разнарядке, а по зову сердца. Конечно, обитателям этой страны незачем подписывать брачные контракты: они не обязаны никого любить — они просто любят.
* * *
|
Молодая венецианка Дюрера — удивительно живая, сегодняшняя, близкая; с ней можно общаться, несмотря на разделяющие нас пять веков. Специалисты могут откопать в архивах (или придумать) имя; но нам-то что с того? — мы знаем ее не по имени, а по судьбе. Ей довелось остаться современницей навсегда. Какое нам дело до якобы фактов якобы биографии? — все они где-то в прошлом, а общаемся мы здесь и сейчас. Все по-разному — а значит, есть личность, есть характер, есть любовь. Для нас это не картинка, это живой человек — и он гораздо реальнее кремлевских начальников, общаться с которыми мы не хотим.
|
|

|
Могут возразить: произведение искусства передает не достоинства модели, а задумки художника — и общаемся мы с его гением, а вовсе не с теми, кого он успел запечатлеть. Например, можно нарисовать пейзаж или натюрморт — что мы, будем разговаривать с бликами на воде или подсолнухами? Не говоря уже о городских улицах или сушеной вобле. Более того, существуют и фантастические образы, которые ни одному из обитателей земли и никаким вещам не соответствуют, — абстракция, гротеск, вариации на тему...
Не спорим — мы и сами не раз высказывались в том же духе. Нет красоты в природе — ее привносят в собственные восприятия люди; сколь угодно реалистичное изображение — все равно плод фантазии, сотворчество автора и публики. Тем более когда речь не о картинках, а о музыке, орнаменте, математических формулах.
И тем не менее, не все в искусстве (или в науке) от авторских внутренностей — и даже они не сами по себе, а в контексте насущных дел и отдаленных последствий. Мы выделяем человека из природы для того, чтобы иметь возможность говорить о природе самой по себе, — точно так же, как личность есть наиболее прямое выражение факта существования общества. Человек не просто наблюдает внешний мир — и не только действует в нем; он выражает эту внешность (объектность) внутренним (духовным) образом. Это и называется вдохновением.
Да, художественный образ (или научное понятие) — не в объекте; но почему-то одно вдохновляет, а другое нет. Можно свалить на чистую субъективность, авторский произвол. Другая сторона того же самого — спонтанность творчества (как в теориях сюрреалистов — которых они сами не придерживались никогда). Но человек вступает в общение с другим человеком не с чистого листа — а с полным набором личных предпочтений и ожиданий; так и в отношении к природе человек уже знает, чего он от нее хочет, — и именно этого добивается (или с удивлением обнаруживает). Мы обращаем внимание на то, что мы любим, к чему стремимся; мы хотим видеть мир таким, каким он хотел бы видеть нас.
Не будь в венецианке той самой всеобщности, которая позволяет ей пережить века, — Дюреру пришлось бы искать другую модель. Такая встреча — как судьба; возможно, многие замечательные мастера не смогли оставить столь же значительного следа только потому, что не удалось им встретить свою любовь.
С этого места подробнее. Художник усматривает в природе и в людях то, что ему близко по духу; но это означает, что в его модели дух так или иначе присутствует — и речь не о взаимодействии человека с вещью (и уж тем более не об использовании), а про общение человека с человеком — рождение духовного единства. В искусстве (поскольку оно отлично от ремесла) художник, с одной стороны, одухотворяет модель, передает ее частицу себя, — но и сам он должен вдохновиться, вобрать в себя наличную в модели духовность. Такое взаимопроникновение, единство личностей — это любовь.
Отсюда доступность и долговечность искусства. Художник видит в модели то, что на его месте усмотрел бы любой другой, — обращает наше внимание на то, на что мы сами его обращаем. Дух присутствует в мире потому, что он туда уже привнесен — и это кажется магией и мистикой, и на этом спекулируют политики и попы. Однако перенос этой, объектно представленной общности в другую плоть (материал искусства, понятийный аппарат в науке) сохраняет дух вне зависимости от происходящего с моделью: пейзаж меняется, люди тоже; способы действия и восприятия настраивают на иные проявления духовности — но произведение искусства или научный факт представляют то, чего давно нет, как если бы оно еще было — и делают возможными сколь угодно смелые экстраполяции в будущее.
Любовь — универсальный способ оторвать дух от единичных тел, позволить ему воплощаться сразу во многих телах, так что гибель одного никак не влияет на представленность в другом. Делая модель явлением искусства, художник не может ее не любить. Иногда (но не обязательно) вполне телесно; чрезмерная телесность закрепощает дух — вместо того, чтобы его освободить, — выводит за рамки искусства. Нагое тело в искусстве может быть очень эротичным — но никогда сексуальным: задача художника подчеркнуть именно несводимость духа к голым телесам. Например, как на картине Эльвгрена (назвать такое pin-up'ом язык не повернется!).

Казалось бы, уж здесь-то все доподлинно известно, биографию модели и ее портфолио легко поднять из архивов и прессы, выставить на всеобщее обозрение, заказать и тиснуть коммерческим тиражом мемуары... Нам-то что? Мы видим вовсе не тело — за ним дух, личность, — это угадывается по мельчайшим штрихам, манере держаться, смотреть, дышать... Не заманка для озабоченных дураков, а высокая идея, ставшая женщиной (как у древних идеи становились богинями и богами). Это вовсе не та личность, которую видел в ней художник — и не та, кем она сама себя считала: она просто живет среди нас, и каждому видится свое, чтобы по-своему любить. Девушки
давно уже нет — но художник нашел то, что выходит далеко за рамки тела, оставил легенду — и неважно, кто и как ее будет рассказывать. Пройдет время — исчезнут и фотографии, и картины; но что-то остается все равно. Оно в нас — и нам не нужно ничего к этому добавлять, пялиться в экран — или читать комментарии. Художник сделал свое дело — теперь наш черед.
Модернизм в искусстве ничего не меняет по существу: сколь угодно абстрактные комбинации форм — все равно исходят из того, что мы знаем о себе и как представляем это вполне реальными вещами. Тела идей — не сами идеи, и доля условности есть всегда. Фотографически точное изображение лиц и тел столь же далеко от живого контакта, как и отдаленный намек на характер или настроение в нетрадиционных носителях. Это всего лишь образ — один из возможных. А за ним стоят люди — и общаемся мы все-таки друг с другом, а не с бездушными вещами или совсем дикими животными.
Один из главных уроков — возможность произвольно составлять образы для себя, не ограничиваясь данным в искусстве; общение с автором и его моделью не отменяет (и не заменяет) общения с реальным миром — где каждый по-своему автор, и соавтор любой другой индивидуальности. Голос Edith Piaf или Johnny Halliday — это готовый образ; любители вправе накладывать на звучание картинки с доступных фотографий или видеозаписей. Но, например, голос диктора Левитана — практически начисто отделен от его внешности, а в кино озвучивают актеров другие актеры — иногда и целые коллективы (заодно вспомним про дублеров и каскадеров). Говорят, Anita Kert Ellis была красавицей; но для нас остались только ее песни, а для глаз — Rita Hayworth (хотя, конечно, тоже хороша). Современные технологии позволяют любые смешения; интернет-сообщество этим частенько злоупотребляет — но издержки роста не мешают продвигаться в направлении ничем не ограниченной индивидуальности — когда все общаются со всеми, везде и во все времена, и каждый проникается каждым — и может всех любить.
* * *
И снова Мирандола:
|
Здесь же важно указать, что року подчинены только временные, то есть телесные вещи. Рациональная душа, поскольку она бестелесна, не зависит от провидения, а служит ему, ибо служить — это и есть истинная свобода; ведь если наша воля подчиняется закону провидения, то это значит, что оно ведет ее самым мудрым образом к осуществлению конечного желания и всякий раз, как она желает освободиться от этого рабства, превращает из свободной в подлинную служанку и делает рабыней рока, хозяйкой которого она была раньше. Отклониться от закона провидения значит оставить разум и следовать чувству и неразумному желанию, которое в силу его телесной природы подчинено року, а тот, кто зависит от нее, делается в гораздо большей степени слугой того, чьим рабом является.
|
|
При всей путанице в словах и богословских реверансах — великолепное выражение сути разума. Природный закон убивает только природное — разум ("рациональная душа", единство рациональности и духовности) бессмертен; более того, именно разум устанавливает рамки природного существования всем вещам и всем существам — включая собственную плоть, совокупность вещей и тел. Неразумные позывы и желания — для животных; разум заставляет живое и неживое служить разумным целям, но тем самым освобождает его (и себя) от природности, одухотворяет, возвышает, окультуривает. Человек свободен — ему ничто не указ, кроме его собственных установлений ("провидение") — и отказаться от этого "служения" — значит, изменить разуму, не быть человеком.
Конечно, не стоит путать гуманистические (то есть буржуазные) идеалы с коммунистическими. Мирандола — из тех, кто готовил в недрах старого мира приход капитализма (казавшегося тогда бесконечно далеким — и безупречно светлым — будущим). Но как раз тогда, на заре Нового времени, идеологи буржуазии говорили не только от ее имени, но и за всех тех, кому предстоит явиться в мир после нее, — ибо своего рупора у них пока быть не могло. Поэтому мы сегодня можем усмотреть в писаниях Мирандолы то, чего он, вероятно, вовсе не имел в виду — и от чего с негодованием отрекся бы, если в наших силах было рассказать ему об этом его языком. Мир по-прежнему поделен на враждующие классы, и такое деление все еще кажется естественным, данным свыше. А значит — неразумным!
... лишь немногие люди пользуются разумом, ибо душа их, как бы отвернувшись, обращает взоры к чувственным вещам и заботам о теле.
Другие же души, которых забота о теле не отвлекает от блага интеллекта, соединены с вечными неразрушимыми телами.
|
|
Вот классовые реалии: одни вынуждены прозябать в безысходной животности ради того, чтобы избранные "не отвлекались от блага интеллекта" — и могли позаботиться о вечности. Идея "неразрушимых тел" — это почти Маркс, за 500 лет до Маркса. Но есть и нечто большее: любые тела — лишь воплощение духа: не только продукты человеческой деятельности — но прежде всего выражение творчества, способности изменять мир в сторону большей разумности. Человек привносит себя в мир, облагораживает его — а не просто воспринимает как данное, не только познает:
|
Я утверждаю, что, согласно чувству, красота исходит от тела и поэтому цель любви всех животных — соитие, но разум рассуждает иначе: он знает, что материальное тело не только не является источником и началом красоты, но представляет собой природу, противоположную красоте и разрушающую ее, и что, чем больше она отделяется от тела и полагается на себя, тем большую ценность и достоинство приобретает ее собственная природа, и поэтому стремится не к тому, чтобы перейти от образа, воспринимаемого взором, к самому телу, но к тому, чтобы очистить этот образ как можно лучше, если на нем видны какие-либо остатки грязи от материальной природы.
|
|
Усматривая у Мирандолы что-то для себя, мы, собственно, следуем его указаниям — пытаемся быть людьми, идти от природы к разуму, а не наоборот. Идея о противоположности природного духовному — просто продолжение теологии; но в контексте сегодняшних попыток свести человека к голой животности — это знамя революции.
* * *
В Психологии сексуальности Фрейд замечает:
|
... сексуальное удовлетворение представляет собой самое лучшее снотворное. Большинство случаев нервной бессонницы объясняется сексуальной неудовлетворенностью.
|
|
И рядом про девушку, использующую сосание как медитацию, способ "унестись в другой мир". Секс как наркотик — обычное явление; но есть, разумеется, и другие (совсем неприродные) методы "отключки".
Вспоминаем также в общем-то верное замечание записного пошляка Морриса, что секс как оргиастическая деятельность характерен только для людей: у животных это мимолетно и сугубо функционально.
Складываем — и получаем занимательную гипотезу:
Переход от животного состояния к общественной деятельности сопровождается резким ростом нагрузки на организм — вплоть до чрезмерного износа и поломки некоторых систем. В частности, риску подвергается механизм восстановления нервно-мышечного тонуса, сон (а за ним и пищеварение, и гормональный обмен, и все прочее). Мозг, задерганный задачами на грани достижимости, не может остановиться, варит все ту же кашу даже после исчезновения мотивации. Если бы люди были достаточно разумны — они бы сознательно привели биологию в порядок, подобно тому, как мы чиним, регулируем и готовим другие орудия труда. Поскольку же орудийное отношение к органическому телу еще не сложилось — методы регуляции приходится встраивать в способ производства; это обычный метод заставить себя сделать что-нибудь не очень интересное: организовать окружающую среду так, чтобы нельзя было не сделать. Итак, для поддержания тел в рабочем состоянии человек делает дозирование нагрузки особой деятельностью; транс и оргазм — простейшие приспособление, подсказанные самой природой (но приобретшие у людей существенно неприродный статус).
На ранних этапах становления цивилизации простые работяги меньше затронуты модными веяниями: после интенсивной физической нагрузки организм отключается и без дополнительных воздействий. Разделение труда лишает монопольно приобщенные к рефлексии верхи этого прямого механизма — и потому преувеличенное внимание к специальным методам (религия, секс, выпивка — и прочие поводы для экстаза) возникает в "культурной" среде, и только потом привносится в низы вместе с другими направлениями ассимиляции. В частности, когда образование становится особой деятельностью, оно прививает новому поколению и (выработанные верхами) методы управления органикой. Интенсификация и усложнение труда рабов приводит к тому, что потребность в особых приемах управления органикой появляется и у широких масс; поскольку такие методы уже есть, низы получают в готовом виде извращенные способы "перезагрузки" тел (тогда как более разумные технологии и наверху доступны далеко не всем).
Догмы эмпирионатурализма тем самым выворачиваются наизнанку, встают с ушей на ноги. Не природные предрасположенности вызывают развитие человеческой сексуальности (и сходных с ней явлений), а наоборот, сексуальность — изначально общественный продукт, и ее производство напрямую зависит от устройства экономики в целом. Корни поведенческих аномалий надо искать не в органике, а в нормах права и морали, в религиозных предписаниях — и прочих ограничениях свободы личностного развития. И лечить не человека, а общество.
Убеждение в возможности сознательного управления организмами пробивает себе дорогу — несмотря на яростное сопротивление адептов "натуральности". Да, замена секса психотропными средствами — это шило на мыло. И нашей гипотезы следует, что снимает болезни снятие общественных барьеров, разнообразие деятельности, переключение с одних занятий на другие. Не застаиваться в труде — и не будет затыков в физиологии. И самое главное — понять, наконец, что органические тела лишь часть человеческого тела, в котором давно уже преобладают искусственные инструменты и орудия. Содержать хозяйство в порядке надо разумно, чтобы одно не в ущерб другому; если способ производства пока не позволяет добиться такой гармонии — кто мешает нам его изменить, сделать разумнее?
* * *
Некто В. Т. Лисовский вдруг озаботился проблемами нравственного воспитания молодежи — и созвал компанию борзописцев под крышей сборника Жить достойно (1979). Четвертая глава называется Любовь и нравственность — но совершенно безнравственным образом вместо любви проповедует дозволенное сверху репродуктивное поведение.
Для начала нас уверяют, что рождение любовного чувства — тайна; здесь нет стандартов, здесь бессильна наука... Только искусство в какой-то мере приподнимает завесу над тем, что происходит в душе любящего. В какой-то мере — потому что каждое чувство индивидуально и уникально, как неповторима человеческая личность.
Звучит, ну, очень красиво. Особенно насчет индивидуальности и неповторимости. Напрягает противопоставление искусства науке: и то, и другое — стороны (уровни) обобщения (обобществления способов деятельности), и что доступно искусству — подведомственно и науке; все различие — в способах представления результатов. Антинаучность попахивает мистикой — а в бога мы не верим.
Но дальше следует казуистический финт: оказывается, серьезно относиться к любви — значит уметь подчинить силу естественного влечения контролю разума, который не позволит осквернить прекрасное и высокое чувство...
Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Разум не для того, чтобы кого-то контролировать — он для того, чтобы вести себя разумно. И уж тем более разум (выражение свободы!) не будет никого себе подчинять. Естественные влечения — это вообще не про людей, это про зверушек. Осквернить прекрасное и высокое — даже теоретически невозможно; иначе оно не совсем прекрасно и недостаточно высоко. Но страньше всего — допустить, что любовь можно "осквернить" сексом (который, кстати может быть гораздо разумнее филистерской "нравственности").
В переводе этот пассаж выглядит так: существует инстанция, узурпировавшая право предписывать, что называть прекрасным и высоким, — и разрешать телесные проявления любви только в согласии с каноном. Отсюда рукой подать до обычной классовой иерархии: барин использует тела холопов по своему усмотрению — а любовь можно вообще слить, за ненадобностью.
Маленькая пикантность: естество подчиняется разуму там, где есть разум то есть, в контексте совместного творчества, преобразования мира. Для этого требуются, как минимум, достаточные экономические предпосылки. Если мы лишь подчиняемся "высшей" необходимости — мы природные существа, и до разума нам далеко. Его нам заменяют разного рода руководящие органы — и насаждаемые ими этические абсолюты, правила игры. В частности, если половую любовь приходится ограничивать соображениями брачного статуса — это уже не любовь вовсе, а нечто первобытно-репродуктивное.
А нам соловьи заливают про социологические исследования, которые якобы показывают, что среди многих мотивов вступления в брак у молодых людей на первом месте любовь (66.2% опрошенных), а экономический же фактор, дескать, утратил главенствующее значение. Нельзя же быть настолько наивными! Когда некто идет под ярмо — нужны серьезные основания: это всегда вынужденная мера, уступка давлению извне — а всякое насилие есть прежде всего насилие экономическое (за исключением психических патологий — у которых тоже экономические корни). Человеческие отношения — не нуждаются в официальном оформлении; даже если допустить, брачующиеся любят друг друга — в брак они вступают вовсе не поэтому, а потому что ради любви приходится преодолевать уродства общественного строя, внешне ограничивать любовь классовыми условностями (хотя чаще всего речь идет не только о видимости). Уберите экономический фактор — не будет браков, не станет семей. Есть ты, есть я, — и никто не вправе вставать между нами. Статистика говорит, скорее, о перераспределении влияний, иной расстановке акцентов — когда видимость благополучия создает иллюзию свободы. Люди по-прежнему экономически зависят друг от друга, от формальных коллективов (включая семью), от государства (как выразителя классового господства) — но они уже не способны осознать это: их мозги промыты еще до рождения.
Как только семью иллюзорно отключили от экономики, остается только верить, что благополучие семьи больше зависит от того, как сложатся отношения между супругами. Какие? В чем они выражаются? Вопрос повисает в воздухе — потому что любовь, якобы, не от мира сего, и обсуждению не подлежит (см. выше). Опять же, липовая статистика: подавляющее большинство, видите ли, ставит согласие в семье выше благосостояния. Но что такое — это ваше "согласие"? Стоит копнуть глубже — и выясняется его рыночная, коммерческая подоплека. Не удивительно, что "верность считается непременной добродетелью даже среди самых юных". Добродетель у юных — это прекрасно! Но верность — это лишь обязательство не выводить средства из семейного бизнеса; ничего иного она никогда не предполагала — и ничего общего с любовью это не имеет. А нам опять про чувства:
|
Поскольку молодые люди очень часто не зависят теперь друг от друга экономически, а соединяет их любовь, то незрелость, неумение подойти к новой форме эмоциональной связи оборачивается порой катастрофой.
|
|
Насчет независимости — откровенный обман. Семья действительно независимых людей — просто невозможна; в лучшем случае это может стать формой бизнес-партнерства, игрой на публику. Супруги зависят и друг от друга, и от родственников с обеих сторон, — именно этот запутанный клубок (а вовсе не эмоциональная связь!) приводит к семейным катастрофам: молодые не просто так ссорятся — их растаскивает в разные угля ринга семейная экономика. Дополнительно к этому, вступление в брак порождает экономические отношениях семьи с государством — и здесь тоже хватает проблем, с которым наивные кутята (начитавшиеся пошлых книжонок про любовь) просто не готовы столкнуться. Вот и получается, что "рядом с любовью идет, как правило, долг, ответственность, забота о любимом". То есть, опять-таки, чисто экономические отношения — ибо любовь как духовное единство не знает забот и ответственности, и нет у нее никаких долгов.
Под занавес — фантастически циничное рассуждение о жилье. Некоторые, дескать, видят чуть ли не главную причину разводов в нехватке жилья. А по мнению некоего горе-экономиста — все как раз наоборот:
|
... улучшение жилищного положения в какой-то степени облегчает и тем самым, если хотите, способствует их росту! Стремительный рост "разводимости" совпал во времени с быстрым улучшением жилищного положения городского населения страны... Раньше просто многим некуда было разъехаться!
|
|
На что авторы сочувственно кивают головой и глубокомысленно изрекают: право на квартиру надо еще заслужить! Каково? Что им конституционные гарантии! — и понятно, почему эти гарантии всегда оставались мертвой буквой. И эти мерзавчики еще имеют наглость говорить о нравственности и любви!
* * *
Н. А. Иванова, Ю. А. Королев, П. И. Седугин,
Новое в законодательстве о браке и семье (1970)
Про Королева годом позже публика еще услышит... А пока — предварительное знакомство, "разъяснение" свежеиспеченных Основ законодательства СССР о браке и семье. С полным комплектом первородного греха:
|
Советское государство постоянно уделяет внимание семье. Это и понятно. Семья представляет собой такую ячейку социалистического общества, в которой тесно соприкасаются интересы отдельных групп и общества в целом. Государство заинтересовано в укреплении семьи. В семье рождаются и воспитываются дети, в семье происходит ста¬новление советского гражданина.
|
|
Насчет соприкосновения интересов — это точно. Узел противоречий, источник заразы. Все повязаны на семью — и это (по мнению ИКС) правильно. Осталось лишь освободить женщину от тяжелого домашнего труда "на базе социалистической системы хозяйства", конечно же, "при наличии передовых отношений в обществе и в первую очередь в семье":
|
Мужчина — муж, отец, брат — является другом и товарищем, равным участником домашних дел, воспитания детей.
|
|
То есть, подразумевается, что домашние дела все-таки повесили на женщину — а мужик время от времени приобщается, на уровне гвоздь забить или пацана выпороть.
В экономически и духовно отсталом обществе семья может иногда стать прибежищем изгнанной из общественного бытия разумности. Однако в целом — узко кустарное производство заведомо отстает от индустриальных технологий, и держится лишь на том, что удалось позаимствовать.
|
Коммунистическая мораль является основой взаимоотношений членов общества в процессе производства, в общественной сфере и в личных семейных делах.
|
|
Это воняет Королевым... Ему очень хочется поставить (пошлую, обывательскую) мораль над правом — и любыми другими формами общественного сознания. Лицемерно объявляя семейные отношения сугубо личным делом — что, конечно же, не ограждает семью от морального давления.
Из области юмора:
|
... непременным условием счастливого длительного брака будет отсутствие при его заключении каких-либо материальных расчетов.
|
|
Что подкрепляется ссылками на судебную практику, якобы говорящую, что брак по расчету непрочен. Чепуха! Брак = расчет. Неважно кто будет считать: сами брачующиеся — или общество, или (явно или неявно) уполномоченная обществом команда (родители и прочие спонсоры). Различие только в составе бенефициаров — а переход от частной собственности к общественной никоим образом не отменяет институт собственности как таковой. Классовое общество — представлено (экономически) господствующим классом, и при социализме оно так же потребительски относится к людям, как рабовладелец к рабам, помещик к крепостным, или капиталист к наемным работникам. Для общества брачующиеся — лишь средства производства рабочей силы, не более! Воспитание детей перекладывают на семью из экономии: рабы готовят рабов за свой счет. Такой, вот расчет. На что рассчитывают будущие супруги и их семьи — это их проблема; в любом случае они на что-то рассчитывают, и браки по расчету оказываются непрочными лишь там, где расчеты разных уровней (супруги — общество, супруги — родители) не стыкуются друг с другом.
Поскольку семья воспроизводит строение способа производства, семейные проблемы — выражение общественных гнилостей; это не рецидивы прошлого, не "пережитки" — в этом кризисная суть семьи, которая не просто испытывает на себе экономические катастрофы, но активно готовит их. А ИКС преисполнены буржуазного субъективизма, сводя все к несознательности населения (то есть, снова перекладывая общественную ответственность на частных лиц). Как обычно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих:
|
Немалую роль в этом должно сыграть воспитание чувства ответственности перед семьей. Это чувство, прежде всего, должно проявляться самими членами семьи, но оно необходимо и другим лицам, от вмешательства, недостатка внимания или неправильного поведения которых нередко разрушаются отношения в семье и зависит само ее существование.
|
|
Ответственность перед семьей — это вроде ответственности начинки перед пирогом; а кулинар за скобками.
|
Совместное жительство — один из признаков семьи, естественная черта брака, и оно в подавляющем большинстве случаев осуществля-ется в жизни.
|
|
Ничего естественного в браке быть не может по определению: это изначально общественный институт. А если людям приходится жить кучей — это исключительно по причине отсутствия жилья. Была бы возможность — жил бы каждый где хочется, ни от кого не в зависимости, и сходились бы когда захочется, и расходились без обид... Американская пропаганда свободы секса ориентирована как раз на такой слой относительно независимых собственников, для которых главный вопрос не как делить ответственность, а куда пойти потрахаться: к тебе или ко мне. Но ИКС свободы секса не признают — и упорно сколачивают семейные гнезда.
|
Понятие главы семьи в наших условиях далеко не всегда совпадает с личностью мужчины. Нередко можно видеть такое положение, когда жена обладает специальностью более высокой квалификации, имеет больший заработок. И уж, конечно, в вопросах воспитания детей и порядка ведения домашнего хозяйства — ее слово первое.
|
|
Катаемся по полу от смеха. Нет слов. То есть, отвечать за дом все равно бабам — даже если они достаточно богаты, чтобы содержать мужика со всеми его придурями — или послать его куда подальше. А господа посматривают сверху и корректируют, если что:
|
Закон правильно оценивает большой и благодарный труд женщины в семье, ее труд по воспитанию детей.
|
|
Другими словами, если тянете лямку — это правильно. Чем больше — тем правильнее. И будьте благодарны, что хотя бы это дают.
|
Именно женщина-мать несет бремя рождения ребенка, основную заботу по его воспитанию.
|
|
Поняли? И никаких тут индустриальных методов воспроизводства! — без контрацептивов или абортов! — и не фиг грузить детские сады и школы своими отродьями, воспитывайте сами и выдавайте на гора готовый продукт, производственную мощность... Удавить все троих за такое отношение к женщине! Тем более, когда брешут:
|
Она в то же время испытывает и великое счастье материнства.
|
|
Предполагается, что быть рабом — для раба величайшее счастье... Дайте женщинам возможность безопасно избавиться от ежемесячных "радостей", от вынашивания и родов, от менопаузы — много ли найдется желающих материнского "счастья"? И не надо нам на уши потемкинскую статистику (коэффициент дикости среди нынешних, замордованных филистерской моралью женщин) — и давайте без показухи в жанре ужастика:
|
Советская действительность свидетельствует, что нет более почетного звания в нашем обществе, чем мать. Уважение к ней воспитывается в семье, школе, в обществе.
|
|
Дескать, назвали вас по матери — туда вам и дорога. Клеймо от рождения на всю жизнь. Дикий сексизм. Забавная концепция трех типов воспитания: семейное, школьное, общественное — в этом порядке. То есть, главнее семьи никого, и какой-нибудь Герой Советского Союза — ничто по сравнению с "яжематью". Ну, и напоследок совершенная махровость:
|
Весь социалистический строй советской страны, ее законы обеспечивают реальные условия для того, чтобы брак был действительно свободным, естественным союзом мужчины и женщины как равноправных членов общества и определялся прежде всего их личным отношением друг к другу, желанием вести совместную семейную жизнь, вместе растить и воспитывать детей. Такой союз предполагает и духовную общность мужчины и женщины, их желание помогать друг другу не только в устройстве домашнего быта, но и в труде.
|
|
Естественный союз — это копуляция зверушек. Разум на то и дан человеку, чтобы избавляться от природных ограничений, подчинить естество общественным, культурным движениям. Естественность — против свободы, тем более, когда людей загоняют во всяческие "союзы". Природное существо не может быть свободным — оно подчиняется законам природы. Человек — предписывает природе законы, меняет ее по своему разумению.
Равноправие не предполагает равенства — и даже наоборот, губит его. Это равенство не по отношению друг к другу, а по отношению к праву (то есть, к хозяину, к барину — которому равно на всех плевать); отношения между равноправными неизбежно становятся конкуренцией, выстраивая иерархию по признаку близости к верхушке. Кто больше нахапал — тот и прав.
Личное отношение друг к другу — это именно отношение друг к другу; при чем тут дети? Даже общее хозяйство — лишь опция. Если обществу нужны дети — пусть оно ими и занимается, а мы останемся сами с собой. Только так возможно отношение к детям как к людям — независимо от возраста и родства.
Духовная близость снисходительным барином допускается как довесок к супружеству (но чтобы только в "союзах", под контролем!) — используют эту кастрированную духовность, чтобы запряженные в одну телегу не бодались меж собой, а покорно тянули куда приказано; потому они и называются "супруги". Новаторство ИКС состоит в предложении распространить супружеские обязанности и на прочее общественное производство: чтобы еще и по работе сплошная семейственность. Идея спорная — и многие буржуи на своих предприятиях такого не разрешают: это против духа жесткой конкуренции — любимое погоняло всевластных господ. Да и внутри семьи речь вовсе не о взаимопомощи, а всего лишь о распределении обязанностей — так сказать, маршрутной карте семейного конвейера.
В любом случае, единственное пожелание ко всей этой бредятине — чистой палочкой в помойное ведро!
* * *
Юнгианская мифология крутится вокруг идеи "андрогинности" человеческой психики — соединения в ней "мужского" и "женского" начал. У китайцев то же самое выражено знаменитой схемой инь-ян — но там это гораздо шире, распространяется на мироздание в целом; отличие древнего синкретического миросозерцания от европейской (радикально рыночной) аналитичности — налицо.
Зацикленные на психике юнгианцы предполагают, что в какой-то момент женское начало было вытеснено в европейской культуре на второй план, подчинено мужскому (причем как в мужчинах, так и в женщинах!), — и только в XX веке начинается борьба за восстановление гармонии. О причинах вытеснения, разумеется, ни слова; поскольку все вообще психоанализ выводит из бессознательного как "психической протоплазмы", источника любых сознательных действий, — следовало бы предположить, что бессознательное уже содержит в себе примат "маскулинности", и лишь развертывает этот зародыш в полновесную общественную организацию. Однако про это юнгианство предпочитает молчать — и обсуждается лишь возможность обретения "самости", единства частей души.
Следуя той же (пост-)психоаналитической схеме, можно считать придуманный Юнгом миф отражением реальной истории европейской цивилизации в кривом зеркале эмпирионатурализма: становление классового общества, доведение способа производства до логического предела, постановка вопроса о переходе к обществу без классов.
Но нас здесь интересует другое. Иерархический подход показывает, что любые различия могут носить лишь временный, относительный характер — как развертывание иерархии в одной точке ее исторического цикла, в процессе обращения. После этого иерархия свертывается (снимает иерархическую структуру) — и развертывается как-то иначе. Переход от одного классового общества к другому не снимает коренных противоречий — и все перестройки происходят на нижних уровнях, при сохранении главного: господство и подчинение. Идея любви — дает нам надежду на полное преодоление разобщенности и отчуждения.
Допуская (чисто гипотетически, в качестве формалистического мысленного эксперимента), что психика по-европейски воспитанного человека "состоит" из мужской и женской компонент, мы логично приходим к типично европейскому преобладанию половой любви, когда отношения полов общественно представляют всякую любовь вообще, и все остальные виды любви надстраиваются над этим фундаментом. Другие народы не отводят половой любви столь значительного места в строении культуры — что европейцы долгое время считали признаком отсталости.
В этом контексте намеченная в XX веке линия на эмансипацию половой жизни, когда однополая и разнополая любовь сочетается с полным отказом от пола и половыми связами несексуального характера, можно было бы считать выражением назревшей тенденции снятия в культуре противоположности женского и мужского как таковой — что постепенно приведет к перестройке психики среднего европейца на иных началах, предполагающих другие реализации идеи любви. Таким образом, речь не о восстановлении разбитого цивилизацией равенства и сотрудничества женщин и мужчин, а о снятии половых различий — не физиологически, а культурно (а следовательно, и психологически, в строении мотивации). Но это, в частности, означает окончательное исчезновение столь милой юнгианскому сердцу романтической любви! Равно как и крушение теорий классического психоанализа, выводящего всю психику из детского сексуального опыта.
Паника в рядах: как же быть с (приписываемой бессознательному) морем "эволюционной энергии" — что подвигнет человечество на исторические деяния? И откуда частному лицу, лишенному либидо, черпать повседневные стремления (не говоря уже и сублимации)?
Спокойно, граждане! Понятие энергии — всего лишь выражение постоянства структуры, однородности времени. Там, где человек позволяет своим (органическим и неорганическим) телам двигаться природным образом — вся сопутствующая этому энергетика никуда не денется. Но достойно ли человека ограничивать себя только такими, физико-химическими и животными движениями? Не пора ли поискать собственно человеческих истоков, разрешить людям вести себя не по инерции (как бог на душу положит), а сообразуясь с голосом разума? Тогда мы, наконец, заметим, что все в нас — от любви: человека к человеку — а не мужчины к женщине, или еще какой-нибудь половинки к искусственно оторванной от нее другой. Вспомните физику: деление атомного ядра высвобождает огромные энергии — но им далеко до мощи термоядерного синтеза. Научившись разумно распоряжаться развертыванием и свертыванием культурно-психологических различий, человечество получит хороший задел для развития всех и каждого; когда запасы подойдут к концу — придумаем еще что-нибудь!
* * *
Эмпирионатурализм — не просто идеологическое направление, не только метод буржуазной пропаганды. Это еще и вековая привычка, культурный склад, менталитет. Люди привыкли считать так — и будут так считать, если не предъявить им очень убедительные аргументы против. Но даже если аргументов у нас не густо — у нас есть шанс заметить, что в наших суждениях попахивает традиционностью, — а дальше уже решать, как с этим поступить.
Эта заметка — на полях не какой-то определенной книжки, а по поводу всей сексологической литературы, от предвестников Фрейда — до наших дней. Тысячи страниц — но у всех прослеживается одна, очень характерная тенденция: физиологические проблемы делать проблемами медицины. Людям плохо — им надо помочь. Казалось бы, что может быть благороднее? Подозрительная странность в том, что весь мир мы делим на здоровых и больных — и первые лечат вторых (а не наоборот). Ничего не напоминает? Именно таков принцип организации классового общества: бедные (теоретически) могут разбогатеть, богатые (по факту) разориться — но устремлять помыслы всем положено к большому капиталу, и его принимать за эталон экономической состоятельности, — а неумение или нежелание делать деньги — это болезнь.
Когда к врачу-сексологу приходят вдвоем или поодиночке — это, якобы, не от хорошей жизни, и надо подкачать либидо и сделать-таки приятно. Врач надевает эмпирионатуралистические очки и пристально разглядывает аномалию: анамнез, анализы, аптека, амбулатория... Весь мир вращается вокруг четко поставленной задачи: мы этого хотим! Даже когда хотим чего-то еще — только для этого. В ход идут всевозможные пособия, тренинги, стимулирующие воздействия, расслабуха и шок. Иногда помогает — чаще нет. Но приятнее вспоминать об удачах — не так ли? Их приписывают чему-нибудь из примененного — и в копилке уже сотни методик, солидная база для новых экспериментов.
Медицина не видит за нарушениями сексуальности ничего кроме физиологии — и само существование профессии врача-сексолога есть знак ограниченности предмета, допускающей узкую специализацию. Разумеется, хорошие специалисты знакомы со смежными областями и почитывают на редком досуге и что-нибудь общепознавательное. Но табличка на дверях говорит за себя — и страждущие вынуждены облекать свои жалобы в готовые, хорошо структурированные формы. Постельные желания несут по профилю, а не так, чтобы идти за сексом к хирургу — или, еще хуже, учителю математики!
Но через всю массу сексуальных книг тянется навязчивая (но далеко не бредовая) идея: прогресс в половой сфере всегда связан с изменением образа жизни — что господа-эмпирики (добросовестно фиксируя в истории болезни факты биографии) ничтоже сумняшеся относят на счет благотворного повышения потенции. Более эфемерные успехи курсов медикаментозной и психотерапии, очевидно, также проистекают из перестройки режима под новый ритм, что вызывает очевидные сдвиги в мотивации. Самые разительные примеры — там, где никакого секса в принципе быть не может (без радикальной хирургии или накачки гормонами); тем не менее, мы читаем о людях, которые нашли себя в жизни несмотря на медицинские провалы, и больше к медикам не обращаются.
Казалось бы, напрашивается вывод: плохо людям не потому, что не хватает секса, — а наоборот, секса не хватает там, где люди чувствуют себя погано и даже за соломинку толком ухватиться не могут. Уродское буржуазное воспитание подсовывает восприятию ходячие стереотипы, не дает разобраться в клубке бытовых и личных неурядиц — и человек полагается на обывательский опыт и сваливает все на первое попавшееся (просто потому, что надо же на что-то свалить). То есть, вообще-то, все не так — но и в сексе прокол, из-за чего, вероятно, и остальное вкривь. Про секс говорят много и охотно — вот он и лезет в каждую бочку: первый кандидат, козел отпущения. А приходят такие догадливые к опытному сексологу — он им подкинет десяток поводов для "точной" формулировки житейских проблем в терминах секса — а не в терминах самой жизни. Не будем говорить, кому это выгодно.
По-хорошему, когда пациент обращается к врачу, желая получать удовольствие от секса, — его первым делом надо бы спросить: а почему именно секс? Может быть, вам еще чего-нибудь по жизни хочется? Так давайте соберем все пожелания — и посмотрим на приоритеты. Если вдруг оказывается, что больше ничего не хочется, — два варианта: либо гражданин с жиру бесится (и тогда грех не прорезать его на дорогие курсы восстановительной терапии!) — либо это действительно больной, в смысле на голову, — неразумное животное вместо человека (и тогда орудийное использование этого существа для поправки медицинских финансов — дело вполне нравственное). Конечно, проверить гипотезу о дефиците образованности надо обязательно: возможно, человека просто не выучили выражаться по-человечески, вот и несет порнуху; тогда вместо лечения нужен общекультурный ликбез, а уж потом — будем обсуждать настоящие причины.
Собственно медицинские показания возникают лишь там, где физиологические особенности затрудняют поиск чего-то человеческого: отвлекающие боли, избыточные выделения, гормональные всплески — мало ли какие глюки в органике! Но тогда это уже не сексология, а урология, эндокринология, и прочая медицина. Когда же просто на жену не стоит — ok, найдите ту, на кого стоит; для этого существуют учреждения немедицинского профиля. Соответственно, жена (если ей нужно) найдет с кем утешиться. На экономику семьи (в норме) это никак не влияет. В конце концов, если член уж очень мешает — может быть, все-таки к хирургу? А еще лучше — к учителю математики: высокий сексологический потенциал этой науки великие люди отмечали много столетий назад.
Утилитарные поводы (типа: хочу ребенка) — не аргумент; здесь тот же вопрос: а на фига? Вполне может выясниться, что ребенок нужен лишь для самоутверждения, как средство давления — или по иным экономическим обстоятельствам; медицина тут бессильна... По очень большому счету, допускаем, что у некоторых с половой жизнью связаны серьезные творческие планы — вроде того, как раньше поэты и художники принимали наркотики, чтобы родить истинно нетленный шедевр. Но если это лишь для острых ощущений, вроде экстремального спорта, — нет в этом ничего человеческого, и лечить надо не органы, а дух.
Вот мы и подошли к центральному вопросу: психические болезни (включая сексуальные аномалии) у человека (поскольку в нем есть искра духовности) проистекают, как правило, не из органических дисфункций, а из (столь же органических) ненормальностей общественной жизни, ограничивающей человека узким кругом бытовых и производственных забот, без перспектив. В норме, если кому-то не дают секса — ну и ладно, есть тысячи не менее интересных приключений; такому, свободному человеку даже в голову не придет, что надо бы это дело подлечить. Но если на каждом шагу экономические и социальные барьеры — варианты катастрофически тают, и приходится упираться в то, что (вроде бы) всегда при себе; если же оно таки не при себе — это клиника.
Таким образом, лечить практически всегда надо общество, а не человека; все сводится к избавлению людей от рабской зависимости (а это покруче наркомании!), от диких запретов и предрассудков. Человек может иногда растеряться, не находит себя, — в этом случае ему нужен не секс, а дружеское участие, любовь (возможно, иногда и половая — но вовсе не обязательно). Медицинское вмешательство только вредит.
Нынешние медики признают важность культурных влияний на генезис и этиологию даже обычных органических расстройств — не говоря уже о психических отклонениях. Однако такие влияния всегда берут в проекции на органику — тогда как на самом деле изменяется прежде всего структура личности, а уже потом, вторичным образом, через аномалии в деятельности, приходят физиологические последствия. Речь снова о недостатке культуры — и сбоях профилактики. Но врач будет изо всех сил стараться увязать собственно медицинские синдромы с особенностями расы, этноса, культурно-социального слоя и т. д.; ясно, что такое перескакивание через уровень не может дать ничего кроме хаоса статистических корреляций, о происхождении которых даже догадываться не из чего.
Особо продвинутые рискуют предложить смену (в терапевтических целях) среды обитания, набора деятельностей и круга общения. По факту речь о перестройке личности — попытке стать другим человеком. Но ради чего? Вряд ли кто сможет решиться на такое просто так, без очень веских оснований. И уж по крайней мере, не ради физиологии. Все изменить только ради секса? — да гори он ярким пламенем! Человек, скорее, будет и дальше мучиться — только бы не изменить себе.
Пока в экономике господствует разделение труда, медицина нужна. И сексология в том числе. Но только в контексте широкой (и всем доступной!) системы общественной реабилитации медицина перестает быть паллиативом, времянкой, видимостью помощи. Мы говорим не об организмах — о людях, о разумных существах, непременным условием существования которых становится свобода, включая независимость от органики, физики, химии и всего остального, что человек использует в деятельности — но не наоборот. И если у людей (поскольку они хотят быть людьми, а не копулирующими телами) что-то не задалось в труде и общении — искать причину надо не в половых органах, а в отсутствии любви, и выход искать — в ней же.
* * *
Толстый Юридический справочник для населения (Минск, 1978). Тонны якобы полезной (дез?)информации. В самой середине — раздел о наследовании. Детали нам ни к чему — но интересно недвусмысленное заявление:
|
Наследование находится в неразрывной связи с отношениями собственности и производно от них.
|
|
Типичная позиция эмпирика: исходим из того, что есть в наличии, — современных, развитых форм; взаимосвязи — исходя из нынешней практики (из "опыта"). Собственность тогда предстает изначальной фундаментальностью, из которой выводится все на свете. Дескать, что накопили — то и делим. В качестве бонуса — чистенькое и благородное понятие семьи, родство как факт бытия, никоим образом не причастный к возникновению имущественного неравенства. Клише: родные и близкие. А как не порадеть родному человечку? Для это и существует институт наследования — и все довольны, поскольку
|
граждане знают, что их имущество после смерти перейдет в собственность близким им людям...
|
|
Забавная двусмысленность: можно подумать про смерть имущества. Украинская присказка: на тобi боже, що менi не гоже. Как бы то ни было, возможность поживиться — основа основ, и это, оказывается здорово сближает!
|
... наследственное право в социалистическом обществе имеет целью укрепление права личной собственности и советской семьи. В конечном счете оно укрепляет социалистические общественные отношения.
|
|
Открытым текстом: социализм целиком и полностью стоит на личной собственности и семейственности — и все общественные отношения сводятся двум операциям: отнять и разделить. Как у клятых буржуев.
Дальше традиционно: "наследственная масса" разветвляется на два потока — по закону (термин "семейное наследование" неудачен, ибо не все родственники входят в состав семьи) и по завещанию (а что, это незаконно?). Конечно же, "имущество состоит не только из прав, но и обязанностей умершего" — и здесь тонкий белорусский юмор: как быть, например, с супружескими обязанностями?
Покойник получает кликуху "наследодатель" — и продолжает юридически жить, дирижируя раздачей честно или нечестно нажитого всяческим наследобрателям (наследникам). При этом наследуется по закону та часть имущества, которая не распределена по завещанию. И даже если наследники по закону уже получили по завещанию (или еще по какому-нибудь месту), они все равно участвуют в разделе имущества по закону.
Простодушного гражданина вводят в заблуждение: согласно кодексу, право завещательного наследования при советах очень и очень ограничено, и далеко не все можно завещать, а что и можно — только с супружеского (или иного близкородственного) согласия, поскольку все нажитое в браке считается совместным имуществом, и тут возможны любые заморочки. Про исключения авторы, конечно же упоминают —столько всего, что без ушлого адвоката не разгребешь. А, вот, если наследников вообще не оказалось (или они отказались принять права и обязанности) — все им причитающееся переходит к государству (супружеский долг, вероятно, тоже...).
Чтобы наследовать от матери — нужна бумажка из загса; то есть, по факту, биология ни при чем, и наследуем мы от бумажки. Про отцов сложнее — и тут потребуется больше бумажек (особенно если отец состоял в другом браке). Но самый букет — с усыновленными, у которых все зависит от наличия живых родственников — и надо отделить мух от котлет, ограничить круг наследников по максимуму. При этом возможно и частичное усыновление: усыновитель-мужчина заменяем природного (бумажного) отца, и аналогично мачеха "и ее родственники" (?) вытесняют мамашу по документу — при сохранении наследования по линии противоположного пола. В общем, комплект развлечения по гроб жизни. А учитывая, что братья и сестры наследуют после друг друга независимо от полнородности — восторгам нет предела.
Тут бы надо извлечь какую-нибудь мораль... Но мы не будем. Захочется кому — наследуйте эту обязанность. А мы не хотим про собственность. Имеем право!
* * *
Мадам А. И. Пергамент, предисловие к книге И. Хазерки, Вступление в брак (1980). Женский флер на человеконенавистнической писанине морального урода. Дескать, автор преуменьшил значение любви — а она таки значит кое-что, и "в век научно-технической революции Ромео и Джульетты не исчезают". А мы, вот, помним — и приветствуем любовь как "величайший нравственный прогресс"... Казалось бы — самое то. Можно согласиться:
|
В условиях социалистического общества эта любовь может развиваться именно как любовь супругов и недооценивать ее значения нельзя.
|
|
Действительно, дикие условия — дикие формы. Но сам факт признания супружеской любви как человеческого (а не правового) отношения — тоже нравственный прогресс. Любить вопреки всему! Безотносительно к браку. Но дальше все по накатанной:
|
Семья выполняет важнейшую общественную функцию — рождение и воспитание детей, успешное осуществление которой возможно лишь в дружной, спаянной семье...
|
|
То есть, рожать вне семьи — дело дохлое, а уж воспитывать — только родичам, и пусть ваше социалистическое государств не суется куда не надо! У нас тут споенный коллектив — противостоящий обществу в целом, и воссоздание этого противостояния — классового расслоения и классового сознания — это важнейшая общественная функция.
|
Развод во всех случаях, даже когда он, выражаясь словами Энгельса, явится благодеянием для супругов, представляет собой в то же время трагедию как для самих разводящихся, так и для их детей...
|
|
Казалось бы, ясно: загонять людей в семейные и прочие коллективы — значит, обрекать их на муки не только при разрушении части связей, но и на стадии относительной стабильности, когда все по местам, и можно "общественно функционировать": далеко не все могут выпутаться из навязанных сверху структур, и если родителям кое-где даровано право развода — дети остаются бесправными игрушками враждебных стихий. Но даже здесь, трагедия не в разводе — а в реакции общества, лицемерно сокрушающегося по поводу несчастных — и тем самым навязывающего им роль несчастных, поражение в правах. Исправлять надо не право, а общество — уничтожать любые взаимозависимости, оставить только свободное общение каждого с каждым, без бумажек и финансовых проблем.
* * *
Карлос Элета Альмаран (наряду с Консуэлой Веласкес) — классический пример того, как одна великая находка может навсегда вписать личность в историю культуры. Но, при всем уважении, у нас таки есть к автору несколько риторических вопросов...
Ya no estás más a mi lado, corazón.
En el alma sólo tengo soledad.
|
|
Позвольте, а почему, вдруг, отсутствие любимой рядом — опустошает душу? Если она вышла в булочную за круассанами — ее надо меньше любить? Даже если булочная так далеко, что обратно уже не добежать. По логике, любовь навсегда переселяет любящих в души друг друга — и никакой силой их оттуда не вытравить! Кто любит — не может быть одинок. В нем не только воспоминание, не только образ любимой — нет, в нем она сама. И если в разлуке ты не можешь ее увидеть ("no puedo verte") — неча на бога пенять, ибо он лишь твое зеркало, отражающее банальное неумение любить. Любящие никогда не расстаются — их задушевным беседам нет преград. Свет любви не исчезает, что бы ни произошло — и при любых поворотах судьбы жизнь уже не будет беспросветно темна ("vida tan oscura"): однажды вспыхнувшая любовь становится маяком на все времена.
Да, любимая может стать смыслом существования ("la razón de mi existir") — но не предметом культа: одни идолы легко приходят на смену другим. Поэтому строку
Adorarte para mi fue religión.
|
|
можно было бы принять лишь понимая "религию" в очень философском смысле, как некую всеобщую связь, "восстановление единства".
Y en tus besos yo encontraba,
El calor que me brindaba
El amor y la pasión.
|
|
Не то чтобы мы были против поцелуев, — скорее даже очень за; однако если кого-то надо регулярно поджаривать для сохранения чувств, — стоит ли овчинка выделки? Но главное, как водится, в финале:
Во-первых, как получилось, что с уходом на тот свет дама прихватила с собой и всю свою любовь, и ни капельки не осталось? Допустим, телесно она уже не здесь; это нисколько не мешает ее любви — и даже наоборот, высвечивает с максимально возможной выпуклостью, уже не отвлекаясь на какие-то (заведомо преходящие) тела и вещи. Нехороший душок-с, вроде стремления сбагрить поскорее: с глаз долой — из сердца вон! — или: баба с возу — кобыле легче!
С другой стороны, уход любимой — вовсе не повод в петлю лезть. Скорее, даже наоборот: поскольку ее органического тела больше нет, надо (как минимум, на первых порах) предоставить ей свое, чтобы она могла продолжиться через любовь — а там, глядишь, навеки войдет в общечеловеческую культуру, через чье-то великое умение любить и быть достойными любви.
* * *
В 1984 году было уже как-то странно говорить о "загнивании" капитализма: именно в это время капитализм со страшной силой утверждался на пространствах бывшего "коммунистического" блока, самим фактом выставляя напоказ экономическую и идеологическую отсталость всяческих "товарищей". Поэтому датированную этим годом книжку О. Г. Кирьяновой Кризис американской семьи (переизданную тремя годами позже и дополненную такой же агиткой про злосчастные судьбы американок) следует, скорее, считать протестом феодальной реакции против рыночного цунами, сметающего прежнюю сословную иерархию и мелкособственническую стихию ради циничной власти крупного капитала. Вынесенное на титульный лист словечко — должно, якобы, передать весь ужас (уже ожидаемых) разрушительных перемен, с которыми всеми силами надо бороться честному обывателю во имя сохранения традиционной патриархальности. Но что одному кажется крушением всего — для другого лишь начало нового процветания. Классовое общество не может без кризисов — а в конце XX века буржуазные экономисты провозгласили кризис основной движущей силой культурного прогресса, гарантом абсолютной несокрушимости рынка. Для американца заглавие кирьяновского памфлета звучало бы комплиментом, подчеркивая истинность "американской идеи" — право нации править миром.
Чтобы осуждать — надо, как минимум, иметь свое суждение. Одно и то же может не нравиться очень по-разному. Критика слева, критика справа... А то и вообще откуда-то из задницы. Характер кирьяновской позиции легко уяснить из разбросанных по тексту сентенций:
|
... общественные функции семьи (или, выражаясь языком социологии, ее институциональные задачи) практически совпадают с личными потребностями человека в восстановлении душевного равновесия, физических сил, рождении потомства, которые он удовлетворяет в семье.
|
|
Если кто-то решительно не в состоянии сохранять душевное равновесие в публичных местах — он не сможет сохранить его и в семье, и даже наоборот: потянет дрянь в дом и выведет семейную жизнь из равновесия. Это болезнь общества. Про "рождение потомства" — полная дичь! Нет такой потребности — и нет нужды в штампах, чтобы давать приплод.
|
Сразу же хочу оговориться, в любом обществе каждый человек стремится удовлетворить в семье комплекс переживаний, который определяется кратко как "семейное счастье", т. е. потребность любить и быть любимым. Это под сомнение никем не ставится.
|
|
Позволим себе усомниться! — рискуя остаться "никем". Это не про любое общество — а только про классовое, где людей вынуждают строить семьи — противопоставленные как обществу, так и членам семьи. То есть любить можно только "своих" — а все остальные враги. И после этого она будет пенять на буржуазный индивидуализм!
Снова и снова — дикая апологетика семейного размножения: дескать, семья — это
|
социальный институт, выполняющий важные социальные функции, прежде всего воспроизводство — рождение и воспитание новых членов общества.
|
|
Вообразить себе общество, которое не нуждается в мелком кустарном воспроизводстве, — мадаме не по мозгам. Она полагает, что
|
представления о браке как об институте, существующем якобы исключительно для "личного удобства", ведут к обесцениванию главной социальной функции семьи — уходу за детьми и их воспитанию.
|
|
Про настоящие социальные функции авторша либо не знает — либо притворяется. Главное — всех прочнее закабалить:
|
... освобождение от "пут деторождения" не просто утопический способ достижения женщиной равноправия в эксплуататорском обществе, но и абсурдный.
|
|
Почему абсурдный? Делать детей и без женщин можно. Только пока запрещено — по "этическим" соображениям. Да и круговую поруку никто не отменял:
|
... тончайшие узы душевной близости и привязанности, то главное, что соединяет представителей двух разных поколений (связанных одной кровью)...
|
|
Это вроде как в банде новеньких вяжут кровью. Чтобы не откосили. Поэтому — запретить разводы!
|
Распространение в массовом сознании идеи легкости развода и отсутствие чувства вины за распад семьи имеют самые отрицательные последствия, снижают стремление к сотрудничеству в разрешении семейных конфликтов.
|
|
Почему эти последствия "отрицательны"? Потому что отрицают уродскую патриархальность? Как же! — ведь
|
человечество на долгом пути своего развития стремилось пусть в идеале, но все-таки к единобрачию, именно в нем находя невыразимую притягательность и возвышенность.
|
|
Не фиг переустраивать вселенную, становиться личностью, разумным существом! Вместо этого —
|
мужчины, женщины и дети должны растворить свою индивидуальность в семейном союзе, объединившись во имя достижения общей цели — благоустройства дома и налаживания быта ради обретения подлинной радости и постижения высшего смысла бытия.
|
|
Стремление к свободе, жажда ничем не ограниченной любви —
|
вступают в неразрешимое противоречие с законами семейной жизни, требующей зачастую самоотречения и самопожертвования во имя других.
|
|
На фига же нам такие законы? Опять же, кто это "другие". Почему те, кто за стенами семейной клетки, оказываются "другее"?
Авторша не скрывает симпатий к семейному укладу минувших дней, когда вселенная ограничивалась собственным подворьем (или границами ранчо):
|
Вообще в те времена отчий дом являлся средоточием всех главных жизненных интересов человека — местом труда и отдыха. Семья всесторонне опекала, поддерживала своих членов. Родители общались с детьми с раннего детства в процессе совместного труда, передавая им свой опыт и профессиональные навыки.
|
|
Конечно, были свои издержки — но они с лихвой компенсировались "тончайшими узами". Потом, в ностальгически возвышенных 1950-х,
|
Даже в сфере моды растворение индивидуальности в семейном союзе привело в свое время к возникновению целого стиля: все члены семьи — папа, мама и дети стремились одеваться одинаково...
|
|
Красота, да и только! С точки зрения дикого средневековья:
|
Какими дикими выглядят нравы буржуазного строя!
|
|
То ли дело у нас: бабушка "катит колясочку, где спит беби, или ведет за руку малыша". Какая, к дьяволу, нуклеарность? — минимум, три поколения, да чтобы жили все кучей, да еще родственники наезжали друг к другу — вплоть до седьмой воды на киселе, — и все требовали "самоотречения и самопожертвования". Слово свобода — в лексиконе отсутствует.
Когда средневековая дамочка живописует кошмары американского быта — это не убеждает, потому что все то же самое мы на каждом шагу наблюдали вокруг себя и в стране "развитого социализма"; ну, может быть не так решительно и откровенно — так, ведь, за откровенность платить не из чего: к 1980-м все уже разворовано, и на повестке дня "лихие 1990-е", передел награбленного. Богатая Америка могла себе позволить самые рискованные эксперименты; а для советских сама возможность, например, раздельного проживания супругов (а часто и детей в отдельности от родителей) — нечто совершенно невообразимое.
Зато когда нам рассказывают о многочисленных альтернативах традиционной семье — это интересно и поучительно. Мировой опыт показал, что все без исключения страны по достижении определенного уровня экономического развития приходят к такому же богатству возможностей, и традиционные браки становятся, разве что, модной экзотикой (типа свадьбы в водолазных костюмах), и, конечно же, ни к чему не обязывают. Богатые пары, например, просто коллекционируют брачные церемонии, разъезжая по разным странам и заключая брак по тамошним ритуалам: деньги есть — что не повеселиться? Потом все это можно похерить — и повторить с новым партнером по кайфу.
Если серьезно, то как раз в этом фиглярстве особенно заметна ограниченность буржуазной "эмансипации" — невозможность свободы в классовом обществе, где всеобщее отчуждение, противопоставление людей друг другу как рыночных агентов, ограничивает поведение торгашескими условностями — и все одинаково в рабстве у кошелька. Мадам возмущена:
|
Буржуазное общество породило всех этих моральных уродов потому, что уродливо само по себе, по своей сути.
|
|
Но навязывать людям филистерскую мораль и объявлять уродством объективные тенденции общественного развития — вот где самое уродство! Уродливость буржуазных новшеств не в отходе от пошлой патриархальности — а в том, что буржуи ни в чем не идут до логического конца, к разрушению семейственности как таковой во имя перехода к полностью общественному воспроизводству населения и полностью личным отношениям между свободными людьми. В любой форме союзы собственников — воспроизводят классовое неравенство; в этом всегда и состояло назначение семьи, и тем же самым занимаются всевозможные "альтернативы". Например, пресловутой упрощение разводов (якобы признак "вырождения"!) натыкается на многочисленные юридические барьеры — и практически нигде не может быть реализовано в полной мере; но даже те, кто сумел вырваться на волю, — не знают, что дальше делать с этой свободой:
|
... 5 из 6 разведенных мужчин и 3 из 4 женщин создают новые семьи в течение 3 лет после развода; 79% разведенных вступают в повторные браки.
|
|
Спрашивается: зачем? Объяснять это мазохизмом любителей наступать на грабли — детская наивность. Идиотская зацикленность на браке не случайна: значит, в устройстве экономики есть нечто, подталкивающее людей к заключению брачных контрактов, несмотря на печальное богатство опыта.
То же самое и в других "нетрадиционных" сожительствах: вечные попытки формализовать отношения, поставить на рыночные рельсы. Отношения людей — подменяются товарообменом или партнерством. Но рынок живет от кризиса до кризиса — и нет в таких "механических" и заведомо эфемерных связях ни общения, ни любви. Есть контракт — и любое отступление от прописанных в нем условий расценивается как "измена" и "предательство". Если же люди свободны — и ничем не обязаны ни друг другу, ни обществу в целом, — о каких "изменах" может идти речь? Нет религии — нет и греха.
Проповедница феодально-патриархального брака распинается по поводу "страданий миллионов людей, семейные отношения которых сложились неудачно", а также "страданий их детей, вызванных разводом родителей". Но кто именно превращает жизнь разведенных в сплошное страдание? Дикари вроде мадам Кирьяновой, противники общественного прогресса, муссирующие сплетни о неполноценности всякого существования кроме семейной клетки на все времена. Они выстраивают экономику так, чтобы заставить население размножаться по утвержденной разнарядке и нести бремя выращивания потомства.
Тут центральный пункт разногласий. Полностью общественное производство органических тел и их социализация — единственная возможность решительно избавиться от проблем с распределением "родительских обязанностей", с дележкой детей при разводах (наряду с прочим имуществом и долгами), с претензиями стариков на достойное содержание на средства взрослых детей.
|
Многие феминистки призывают соотечественниц в будущем вообще отказаться от семейных ролей, поскольку замужество и материнство якобы усыпляют женщину, превращают ее в нравственно и физически ущербное существо.
|
|
Только так! Брак уродует людей — делает их винтиками бездушной машины. Даже у богатых, где за физическую форму отвечает штат прислуги, а за душевное состояние — дорогой психотерапевт, — даже у них духовная ущербность неизбежна, в силу самой необходимости что-либо компенсировать. Разумеется, к мужчинам это относится в той же мере. Непоследовательность буржуазного феминизма вовсе не в "абсурдности" идеи освобождения от детей, а в том, что это движение феминизма — заведомо противопоставляющее женщину мужчине, и наоборот. Речь не о перетягивании одеяла, выбивании прав и льгот; надо в каждом (независимо от пола и возраста) видеть человека — и строить отношения свободных людей, а не просто менять одни роли на другие. Господствующему классу такие вольности не по нутру: эдак, ведь, можно замахнуться и на право господ ездить на шеях рабов! Поэтому они и пытаются, допуская какие угодно нововведения, спасти саму идеи семьи, взаимного рабства, рыночной конкуренции, — и подневольного репродуктивного "счастья". И для этого спонсируют писателей вроде представленной здесь вульгарно совковой мадам.
* * *
Типичная апологетика раздельного воспитания:
|
Что касается мальчиков, мы учитываем, что они следуют инструкции, не любят повторений, долгих объяснений. Им импонирует смена событий, всевозможные соревнования, они любят самостоятельно искать новые пути, быть первооткрывателями. У девочек все по-другому. Им нужно подробно объяснять тему, приводить примеры и только потом предложить решить задачку. Или, например, по литературе мальчики предлагают, как правило, сюжет, а девочки — описание.
|
То есть, гендерные предпочтения — от природы, и надо их учитывать в системе (массового, мещанского, рабского) образования. Правильный вывод другой: что-то в обществе не так с образованием малолеток, начиная с младенчества (или даже до рождения); из-за этого в школу приходят духовные уроды со сложившимися предпочтениями, — намертво вбитыми в сознание родителями и обществом. Не детей надо делить по полу (а если кто нетрадиционный?), а перестраивать дошкольное воспитание и школу так, чтобы любые предпочтения считались нормальными — и всегда можно было бы подобрать курс индивидуально, развить наклонности, а не подвести их под стандарт. Но это уже совсем другие деньги...
* * *
Газета Новости радио; ленинские слова эпиграфом к номеру 4 от 1928 года (контекст в ПСС найти не удалось):
|
Мы должны изыскать способы непосредственного общения с самым заброшенным крестьянином. Без бюрократизма, без проволочек в самую глушь. И это сделает радио.
|
|
Утопическая чушь! Так и позволили кому угодно радировать что-нибудь в Кремль, лично тов. Ленину... Без бюрократизма. Даже сегодня, в эпоху компьютеров, сотовых сетей и космической связи, перекрыть кислород неугодным гражданам — плевое дело. Технологии контроля не отстают от технологий массовых коммуникаций.
Но главное возражение не в том. Бросается в глаза высокомерие кремлевского начальника, считающего уродами всех, кому довелось жить дальше 50 километров от Москвы (или, на худой конец, областного центра). Характерная лексика: "заброшенный", "глушь"... Даже крестьяне тут упоминаются в уничижительном смысле: где им до рабочих — а уж тем более до номенклатурного бюрократа!
Предполагается, что ситуация в норме, что так оно и останется в обозримом будущем, — и радио призвано лишь упростить доведение партийных директив до всяческих "заброшенных", или стукачество с мест. Если же подходить к делу по-революционному, постановка задачи совсем другая: пора сделать так, чтобы не было больше сортировки по степени "отсталости" — чтобы никаких заброшенных, и никакой глуши. Одними радиоволнами тут не обойтись: придется и дороги строить, и налаживать оперативную логистику, и обеспечить свободу переселения, и организовать распределенные (сетевые) производства, чтобы большую часть необходимого стало возможно изготовлять на местах. И самое главное — отправить в компост деление на управленцев и управляемых, производственников и организаторов производства. Разумный человек знает что делает и зачем — и нет над ним ни блюстителей, ни господ.
* * *
Когда красотка Вис рассуждает о неразумности одарить собой удалого Рамина, который привык к разгульной жизни и совершенно не умеет хранить кому-либо верность, — пикантность ситуации в том, что речь не о выборе суженого, а о супружеской измене: для дамы вопрос о верности супругу вообще не стоит — ее волнует вопрос о развитии увлекательного романа (при сохранении статуса царственной особы и прелестей дворцовой жизни). Здесь персы идут в ногу с развитием европейской куртуазности — и даже чуток опережают Европу. Поэма Гургани — по мотивам древнеиранских сказок; точно так же в Европе куртуазная культура вырастает не из аристократических развлечений, а из народного творчества, следы которого в обработках XI–XII веков разглядывать приходится с микроскопом: роман о Тристане и Изольде переносит во дворец экзотику бретонских легенд — но сами они уже вторичны, следуют не исконно кельтской традиции, а вкусам датчан-завоевателей (давших героям другие, германские имена).
Немаловажная деталь: законной супругой шаха Вис становится по праву сильного, как военная добыча, — и здесь, кстати, иллюстрация неэкономической сути права, о том, как дух (в форме насилия) лепит историю (вопреки уверениям Энгельса, что надстройка рождается сама собой из производственной пены). Но до этого она уже стала супругой своего брата (это воля матери!); здесь очевидная отсылка к древним родоплеменным отношениям: братьями считались члены материнского рода, безотносительно к несущественным репродуктивным деталям (действительному отцовству и материнству). Поучительно также, что, став женой шаха, Вис остается и супругой своего брата (и продолжает его любить!) — которого шах просит вразумить чересчур игривую даму, на правах "младшего мужа". Само по себе присутствие третьего — товарищей по супружеству не смущает: им не нравится лишь игра не по правилам, когда распоряжаться своей любовью Вис хочет сама, без учета вековых традиций и политического расклада.
Нечто подобное есть и в греческой мифологии: Прекрасная Елена по пути к законному супругу успела родить ребенка где-то "на островах", а ее брак с Парисом не мешает ей оставаться женой Менелая и после завершения многолетних приключений (а не будь этого повода — война состоялась бы все равно).
* * *
В 1980-х между нами был в ходу термин: косолаповский стиль — в честь одного большого философа, отличавшегося умением говорить много и правильно, и даже по существу, — но в итоге так ничего и не сказать. Его трактаты прекрасно шли как дайджест, источник ссылок, выражение официальной политики, — но никоим образом не идейная позиция, не взгляд в будущее. После чтения не оставалось ничего, не возникало ни малейшего импульса продолжить или возразить. Не то, чтобы кто-то относился к нему отрицательно — напротив, точность и определенность формулировок, верность духу марксизма, вызывали уважение — которое только укрепилось после контрреволюционного переворота: почти все бывшие ленинцы переметнулись на сторону врага (не говоря уже о совковых диверсантах) — а Косолапов остался собой, на фоне резко накренившегося вправо руководства компартии.
Но мы здесь не о нем, а о книге Р. Г. Гуровой Социологические проблемы воспитания (М. 1981). Тот же дух. Социология всегда была буржуазной лженаукой — но здесь это совсем болото, выцарапать из которого разумные кочки почти немыслимо — да особо и не тянет.
Центральная тема — переплетение в развитии личности стихийных влияний и "целенаправленного руководства"; первое как "социальное формирование" — второе как "воспитание". Кроме общественных факторов — еще и биологические ("наследственные"). Есть также довольно туманная идея "социализации", где все в куче: философский, социологический, социально-психологический, педагогический аспект; становление человека как социального существа, дескать, связано с духовным воспроизводством общества через социальное становление молодого поколения, и здесь та же двоякость: усвоение культуры — и воспитательный процесс (который вдруг оказывается лишь подготовкой к социальным ролям).
Нас уверяют, что между "формированием" и "воспитанием" нет никаких антагонизмов. Оптимизм не очень убеждает: сама возможность постановки подобных вопросов — очевидное указание на то, что противоречия таки возможны, и следовало бы выяснить условия их развития в антагонизм; но про это ни слова — а в результате никаких оснований судить о нестыковках в данном конкретном обществе.
В комплекте также трюизм об обратном воздействии воспитания (почему не социализации вообще?) на "воспроизводство общества и социальные противоречия" (из которых почему-то исключены трения между педагогикой и уличной стихией).
В принципе, в основу научного (то есть, заведомо ограниченного и частичного) исследования можно положить любую модель — и теория двойной детерминации годится как любая другая. Но в социологии теории провозглашают не для того, чтобы из них что-то следовало:
|
Социально-педагогическое исследование проводится на основе конкретного эмпирического материала.
|
|
То есть вместо осмысления действительности в свете базовой модели предлагается подбирать фактики, комбинировать их под какую-нибудь статистику — а вовсе не предсказывать и тем более не конструировать. По логике, конкретность — то, к чему мы восходим от теоретических абстракций, — а вовсе не голый эмпиризм.
Вернемся к теории. Как только заходит речь о целенаправленном воздействии на личность — напрашивается вопрос: а кто и для чего будет воздействовать. Нет ответа — и воспитание выглядит такой же стихией, ничем по сути не отличаясь от "формирования". Либо придется вспомнить традиционное (со времен Древнего Царства или раньше) различение "природного" и "божественного" мира — а между ними пристроилось человечество, равно противостоящее обоим. По ходу дальнейшего, одно недоумение сменяется другим: оказывается, что воспитание — прерогатива специально для этого созданных учреждений (семья, школа, трудовая колония и т. д.).; то есть, все, что не удостоено официального допуска, — воспитывать, по определению, не может (не имеет права): оно в состоянии только "формировать". Если, допустим, для меня любовник матери авторитетнее законного отца — брать пример я обязан с родителя (или хотя бы изображать почтение), а внешний дядя для науки останется лишь "формирующим" эпизодом. Несоответствие такой позиции бытовым реальностям бросается в глаза; настаивать на приоритете формальной педагогики — чистейший волюнтаризм.
Другими словами: выдвижение во главу угла борьбы стихийных и намеренных влияний — это сугубо классовый подход, предполагающий, что намерения одних общественно весомее все прочих намерений, и что педагогическое воздействие "профессионалов" имеет статус закона, перевешивая любые альтернативы. Перефразируя известное изречение: закон крив — но он закон.
Переход к бесклассовому обществу устраняет господство одних людей над другими — и одного воспитания над другим. В таком мире любые общественные воздействия на равных участвуют в социализации, и никакая конкуренция в принципе невозможна, различия неуместны. Поэтому разумнее поинтересоваться другими обращениями иерархии социализации, взяв за основу ее отношение к деятельности, а не классовый диктат.
Положенный по академическим канонам исторический обзор — чисто формальная пробежка по верхам, на уровне сборника анекдотов. Пожурив хрестоматийного Платона (не читанного даже в переводах) за "реакционную" идею дополнительности общественных функций и специализированного воспитания (прототип буржуазной педагогики) — Гурова выплескивает из купели и здоровую мысль о полностью общественной социализации, когда вообще дети не знают родителей, и заботится о них общество в целом (у Платона неотделимое от государства, полиса). Поэтому гуровский идеал "всестороннего и гармонического развития каждого человека" сводится (в русле борьбы с христианским аскетизмом) к дикой природности:
|
... естественные потребности человека, его природа — вот главные детерминанты воспитания...
|
|
Потом вдруг выясняется, что "идея о выведении целей воспитания из природы ребенка" впоследствии тоже становится реакционной — и тогда вообще неясно, что из чего выводить. Тем паче, что представления о могуществе воспитания (у Эразма) — это "идеализм".
Верное наблюдение, что сама постановка вопроса о преобладании общественного и личного в воспитании ущербна, ибо предполагает вечную противопоставленность личности обществу, — не находит продолжения и тает рассветной дымкой... Точно так же повисает в пустоте замечательная сентенция:
|
Чем дальше будет прогрессировать человечество, тем более станет возрастать удельный вес субъективного фактора.
|
|
Приведенные автором ссылки — ведут в ту самую пустоту: ничего такого у Маркса и Энгельса на указанных страницах нет. А понимать под "субъективным фактором" можно что угодно. Например, диктатуру олигархической буржуазии. Это совсем не то же самое, что нарастание духовности, осмысленность и разумность.
Столь же легковесны рассказы об идеях Н. К. Крупской про вывод всех традиционно семейных производств из узости мелкого частного хозяйства к универсальной индустриальности. В частности, воспитание детей — забота общества в целом, и никакая семья не сможет обеспечить такого разнообразия возможностей, без ограничений предоставляя необходимые ресурсы. Крупская здесь не всегда последовательна — истолковать можно по-разному. Гурова вращается в институциональной педагогике — и для нее все сводится к примату школы, попыткам (по подсказке А. С. Макаренко) сделать ее всеобщим центром, которому подчинено все остальное. Такое уж поветрие! — вот, и у Сухомлинского про то же... Но мы знаем, что в ту же эпоху существовали и другие радикальные течения, в том числе проповедующие полное отмирание школы, ненужность педагогики как таковой, вплоть до объявления семейного и школьного воспитания главным источником личностных девиаций и проблем с психикой (за рубежом — А. Миллер, в СССР — В. Н. Шульгин и др.).
В контексте борьбы воспитывающего руководства с формирующей личность общественной стихией — про кошмары урбанизации.
|
Период изменений в технологии производства, в науке и технике стал гораздо меньше периода активной деятельности человека: в любой профессии за 5–7 лет происходит по существу смена труда без перемены места работающего.
|
|
Ну, здесь мы немного погорячились... Даже в XXI веке какой-нибудь бухгалтер пыхтит с первичкой и 1С вся активную жизнь — и не особо рвется куда-то еще. Номенклатура руководит, финансист играет на бирже, программист программирует... Десятки и сотни лет. При всех внешних изменениях, характер труда, его дух — остается неизменным. Если обезьяну научить нажимать на кнопку, чтобы получить банан — она от этого на станет совершенно новой личностью.
|
Большой город открывает возможности для создания крупных школ и разделения труда учителей, что существенно повышает уровень образования и воспитания. Он окружает ребенка внешкольными учреждениями... В то же время большой город, концентрируя огромные массы людей на сравнительно небольшой площади, разобщает, разъединяет людей.
|
|
В этом и состоит прогрессивная историческая роль городов! Зачем нам сколачивать банды? Пусть каждый будет сам по себе — чтобы не людей подгонять под образовательные стандарты, а школу научить индивидуально заниматься с каждым, учитывая его личную историю и личные запросы. Тогда вообще неуместны гуровские разговоры про "необходимость усиления контроля" — как внешнего ("повышение ответственности за поведение детей каждого взрослого", "введение ученических билетов") — так и внутреннего (воспитание самоконтроля и внутренней дисциплины). Кстати, пора бы озаботиться снятием возрастной дискриминации: личность не есть нечто ставшее — она всегда в процессе становления, и потому как "формирование", так и "воспитание" равно актуальны для всех — от эмбрионов до покойников.
|
Потенциальные воспитательные возможности средств массовой информации значительно выше, чем их действительный эффект, но для их осуществления необходимо педагогическое руководство.
|
|
Массы в ступоре. Педагогическое руководство прессой и интернетом — за гранью самой смелой фантастики. По той же логике, учителя должны стать организаторами науки, в министры надо назначать педагогов, и самый главный в стране — вождь и учитель.
Гурова восторженно провозглашает, что учитель сейчас — дирижер в потоке информации, оператор, управляющий процессом умственного развития. Почему воспитание сводится к информированию и прокачке мозгов — дело темное. Зато есть неприглядный факт:
|
Результаты массовых опросов показали, что лишь половина учителей положительно относится к своей профессии. По мере увеличения стажа учителя, его отношение к своей профессии становится хуже, причем эта тенденция характерна для учителей и города и села.
Лишь 20% учителей вполне определенно не хотели бы изменить свою профессию, и только 13% — хотели бы видеть своего сына или дочь в роли педагога.
|
|
Но почему учителя не хотят учить? Да потому что ученики не хотят учиться! Не нужно им это, по жизни. Значит, изобретать "другие, более тонкие и глубокие мотивы учебного труда" — прививать "любовь к занятиям", подсовывать мысль, что "без знаний нельзя быть социально и культурно значимой личностью", и все такое. То есть, по факту, борьба учителей за сохранение рабочих мест, попытка удержаться у кормушки. А народ предпочитает не "учебный труд", а реальный вклад в шанс реального оклада. Нужно не изучение языка — а получение сертификата, не абстрактная культурность — а вхождение в конкретный бизнес. На это уже тогда было заточено образование за рубежом — а теперь и на постсоветском пространстве. Где теперь ваши сказочки?
|
Уже при социализме у молодежи формируется коммунистическая идеология и нравственность, ставится задача всестороннего развития личности.
|
|
Задача ставилась еще древними греками! А идеология не может обогнать способ производства. Тонкий момент: идеология и нравственность таки не воспитывается — а формируется; то есть, в соответствии с гуровской раскладкой, роль воспитателей = 0. Ну и, конечно, резонный вопрос: а что, кроме молодежи идеология и нравственность никому не нужны? Почему бы и детишек не накачать идеологически? — да и взрослым не мешало бы... Буржуазная машина промывания мозгов никакими категориями не брезгует — и для каждой подбирает самые доходчивые заманочки: вот вам прототип универсального образования будущего в извращенно-классовой форме.
|
Массовое вовлечение женщин в общественное производство вызывает необходимость расширения сети дошкольных учреждений, школ-интернатов, школ с продленным и полным днем, внешкольных учреждений, усиление общественного сектора воспитания в целом. С другой стороны, важным путем оптимизации процесса воспитания может стать кооперация усилий родителей и "разделение" их воспитательного труда. То, что не могут сделать отдельные родители, с успехом выполнит родительский коллектив, тесно связанный со школой.
|
|
Прикиньте: идея "коллективного материнства" брошена не кем-нибудь, а самым первым большевиком (по воспоминаниям Клары Цеткин). Так что замах серьезный. Нормальному человеку, конечно же, не понять, почему с переходом женщин "в общественное производство" они должны тянуть на себе еще и семейные вериги: логичнее было бы вообще избавиться от кустарщины — и никакая кооперация тогда вообще не нужна. Вспомним того же классика: кооперация есть переходная форма к индустриальному производству, вынужденная необходимость в условиях отсталой экономики и столь же недоразвитой духовности. Старик Платон таки был прав: не должны дети знать своих родителей; но мы сегодня можем сделать и следующий шаг: деление на детей и взрослых следует оставить в классовом прошлом — и строить мир, населенный людьми, а не женщинами, мужчинами, детьми, родителями, русскими или китайцами, городскими или деревенскими... Как-то так.
* * *
Психиатры и психотерапевты приводят многочисленные примеры того, как шизоидная личность умеет накликать беду: человек придумал что-то, написал или рассказал — вроде бы, осознавая, что это всего лишь выдумка, полет фантазии... Но проходит время — и то же самое случается с ним самим: сны сбываются.
Трактовка, конечно же, чисто медицинская: навязчивая идея, болезненная предрасположенность... Ненормальность. Когда нечто похожее происходит, например, с известным поэтом — начинаются разговоры о творчестве как болезни, умопомрачении (вперемешку с просветлениями), вдохновенном исступлении... В ту же струю — образ пророка.
Но стоит вырваться из профессионального кретинизма — и мы обнаруживаем, что сбываются не только дурные сны, что предвидения на каждом шагу, — это неотъемлемая часть нашей повседневности. Врачи сталкиваются с ненормальностями общественного устройства — когда неразумное общество лишает разума людей, доводит их до скотского состояния, — а они изо всех сил пытаются сопротивляться; отсюда внутренний конфликт, расщепление личности. В большинстве случаев люди справляются с перекосами самостоятельно; обычное представление, что в каждом человеке сидит скрытая болезнь и что нуждающихся в терапии гораздо больше, чем тех, кто обращается (или кого приводят) к врачу, — это проекция уродливости классового бытия, всеобщности отчуждения и рыночных извращений.
Ставить себе цели и добиваться их реализации — что может быть нормальнее? В том и суть разума, чтобы действовать не вслепую, не наугад, по прихоти обстоятельств, — но держать перед собой картину выдуманного (идеального) мира и карту путей к нему. Плохо — когда нет мечты, когда уже не на что надеяться. Тогда человек переселяется в воображаемый мир — чтобы защититься от наплыва мерзости. Трагедия в том, что внутри крепостных стен — то же, что и снаружи; когда все это бушует в малом объеме — становится еще хуже. Лекарство лишь одно: любовь. Но как трудно сотворить ее в мире без любви!
* * *
Авторы дешевых книжонок про манипуляторов и психологическую защиту сами себя пытаются убедить: вредители всегда были и всегда будут — их невозможно перевоспитать, и никакое общество не свободно от них. А потому, дескать, готовьтесь распознавать наезды, защищаться, отражать атаки и контратаковать... Ничего другого, якобы, не остается. Реклама вечной войны
Даже если считать, что это лишь о современных, испорченных тысячелетиями классовой вражды людишках, — все равно неправда. Если согласиться, признать неизлечимое уродство мира, — то и в нас не остается ничего человеческого, и тогда просто незачем защищаться: лучше смерть, чем такое существование, животность борьбы. Тому, кто принимает закон неразумности — не нужен разум.
Принципы разумного поведения — любовь и свобода. Если мы не собираемся ни от кого обороняться — на нас невозможно напасть; если мы не собираемся отнимать — у нас невозможно отнять. Тела могут вести себя как угодно — духа это не касается.
Речь, конечно же, не о глупой медитации, не об уходе в мистику, не о юродстве. Эти пути — подсказаны теми, кто насаждает всеобщую вражду, кто использует отказавшихся от разума для подавления разума. Да, мы живем в нечеловеческих условиях, и это вынуждает нас воплощаться в неразумности бытия. Но в самой мерзкой уродине — можно поселить каплю любви, сделать ее неразумность выражением свободы. Классовый человек — частичный человек; что у разума в единстве — в отчужденных друг от друга сознаниях выглядит чужим. Но если суметь хотя бы на миг забыть о различии твоего и моего — осознать духовное единство, — никакие манипуляторы нам не страшны: они никогда не отнимут у нас того, что им не нужно, чего они не в состоянии даже заметить. Мы примем к сведению наличие таких животных — но общаться будем только с людьми, искать в каждом новом знакомстве человека, а не врага. Иногда не получится — но даже единственная находка выводит нас из дикости, дарит свободу, позволяет любить и быть достойными любви.
* * *
Из дневников Лаврентия Берии:
|
Я знаю, что такое власть давно, мальчишкой был, а уже власть была. Что для меня была власть? Ответственность. Тебе доверили, работай. Не умеешь, учись. Не хочешь — через не могу, а делай! Тебе же доверили. Потом, когда у тебя власть есть, это же интересно. Сам придумал, сам сделал, видишь, что человек рядом толковый, можешь его поднять, помочь, он тебе тоже поможет, тебе же легче работать будет.
Чем больше власти, тем интереснее. А если сам себе хозяин, так тут работай и работай. Сказал, делается. Не делается, наказал. Не помогает, выгнал. Ты все можешь. Видишь болото, осушай. Хочешь, чтобы дети были здоровыми и грамотными, строй стадион, строй институт. Учитесь, бегайте, радуйтесь. А как бывает? Думает, получил власть, можешь есть всласть. И начинают шкурничать, барахолить... Сам не заметил, как стал враг.
|
|
Фантастически точная иллюстрация того, как в классовом обществе вполне человеческие стремления приобретают извращенно-классовые формы. Жажда быть для людей — оборачивается необходимостью быть над людьми, — то есть, против людей. Классовое воспитание уродует людей: жесткая ограниченность, недоступность творчества, приводит к отказу от духовности как таковой; кто пытается оставаться личностью, приводить в порядок мир, творить, — воспринимаются как безумцы или враги. Шкурные интересы — близки и понятны; грандиозные планы — блажь. Власть — всегда насилие, эксплуатация человека человеком; власть духовно губит и насильника, и жертву, независимо от благости намерений. Но во власти два пути: либо силой подавлять шкурный протест — либо уподобиться шкурникам, стать для них своим. В России пробовали оба. Результат один: крушение и распад.
На гребне революции возникает иллюзия атмосферы творчества — опьянение новизной, фейерверк возможностей... Самое грандиозное — изменять мир! Но человек все-таки для того, чтобы облагораживать природу — а не насиловать.
Значит надо искать другое — размывать систему изнутри, искать место для любви. Трудно. Но зачем нам разум?
* * *
Как ни вылизывай стилистику — огрехи будут. Иначе чем бы кормилась армия журнальных и литературных редакторов, научных рецензентов и благонамеренных цензоров? Тем более трудно соблюсти реноме там, где подобающих слов и формулировок пока не придумали, и приходится приспосабливать старое, изрядно потасканное, тысячу раз перевранное. И заранее смириться с неизбежным: "не так поймут". Чтобы понять "так" — надо воссоздавать контекст: влезть в шкуру автора, иметь миллионы общих знакомых, пропитаться историей (то есть, хронологией и логикой) его работ; кому и зачем взваливать на себя лишний труд?
Вот, например, глава о кооперации в Капитале Маркса (за номером одиннадцать). Масса точных зарисовок из промышленной истории — плюс вполне резонные политические выводы. Казалось бы, в разгар компьютерной революции распараллеливание и многопоточность уже не в новинку — так что описанные Марксом варианты перешли в чисто технологическую сферу: какая там борьба классов? — мы уже и классы понимаем совсем иначе... Но у Маркса по старинке [23, 337]:
|
Та форма труда, при которой много лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах производства, называется кооперацией (concours des forces).
|
|
Что получилось в англо-американском переводе? Французское concours вполне соответствует английскому concurrence — что, конечно же, совсем не то же самое, что competition. Но возьмите русскую литературу (прежде всего компьютерную): все поголовно переводят concurrence как конкуренция — и вместо соединения сил нам предлагают имперский принцип: разделяй и властвуй.
Казалось бы, что Маркса-то винить? Это все русские буржуи, которым подобострастно угождают новорусские переводчики (а иначе капусты не нашинкуют). А у Маркса очень правильно:
|
Здесь дело идет не только о повышении путем кооперации индивидуальной производительной силы, но и о создании новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая сила.
|
|
К сожалению, развить идею коллективного субъекта как одного из уровней субъектности вообще (то есть, насчет иерархичности разума) Маркс не озаботился; ученики и последователи вообще такими темами не увлекались — им бы нахапать власти, а потом тихой сапой восстановить status quo, при иной расстановке экономических сил: на фига разум, когда есть деньги? Но у Маркса читаем [23, 344–345]:
|
Рабочий является собственником своей рабочей силы лишь до тех пор, пока он в качестве продавца последней торгуется с капиталистом, но он может продать лишь то, чем он обладает, лишь свою индивидуальную, обособленную рабочую силу. Как независимые личности, рабочие являются индивидуумами, вступившими в определенное отношение к одному и тому же капиталу, но не друг к другу. Их кооперация начинается лишь в процессе труда, но в процессе труда они уже перестают принадлежать самим себе. С вступлением в процесс труда они сделались частью капитала. Как кооперирующиеся между собой рабочие, как члены одного деятельного организма, они сами представляют собой лишь особый способ существования капитала. Поэтому та производительная сила, которую развивает рабочий как общественный рабочий, есть производительная сила капитала. Общественная производительная сила труда развивается безвозмездно, как только рабочий поставлен, в определенные условия, а капитал как раз и ставит его в эти условия. Так как общественная производительная сила. труда ничего не стоит капиталу, так как, с другой стороны, она не развивается рабочим, пока сам его труд не принадлежит капиталу, то она представляется производительной силой, принадлежащей капиталу по самой его природе, имманентной капиталу производительной силой.
|
|
У кого есть чем — могут сделать далеко идущие выводы. Оказывается, источник прибавочной стоимости не способность трудиться как таковая, а та культурная составляющая, которая отвечает за качественно иной характер общественного труда по сравнению с трудом индивидуальным. Иначе: не сложение усилий, а их соединение, разумная организация производства, не сам труд — а его общественность! Именно эту, творческую составляющую капиталист считает своей заслугой — и чего ради за это работнику платить? Дальше вспоминаем, что отделение рефлексии от физического труда состоялось отнюдь не по доброму согласию сторон, а путем насильственного порабощения одних другими; даже если (в духе политэкономических робинзонад) столкнуть одного работника с одним нанимателем — бросается в глаза изначальное неравноправие: организатор производства и производитель фактически договариваются лишь о совместном производстве (с соответствующим распределением ролей) — но плоды совместности почему-то забирает один... Никакой экономикой насилия не объяснить.
Думаете, все чин-чинарем — и Маркс чистеньким гуляет по эпохе пост-империализма? Черта с два! Потому что бочка меда испоганена порцией литературных корявостей — за которыми (согласно духу марксизма) кроется идеологическая гниль, философская и научная непоследовательность (разумеется, как выражение незрелостей эпохи). Будьте уверены: из многотомного наследия Маркса буржуйствующие потомки выдерут именно эти, антимарксистские фразочки — так что вывалянный в дерьме Маркс окажется крестником любых теоретических нелепостей и записным промывщиком мозгов. Вот, пожалте [23, 337]:
|
Но и помимо той новой силы, которая возникает из слияния многих сил в одну общую, при большинстве производительных работ уже самый общественный контакт вызывает соревнование и своеобразное возбуждение жизненной энергии (animal spirits), увеличивающее индивидуальную производительность отдельных лиц, так что 12 человек в течение одного совместного рабочего дня в 144 часа произведут гораздо больше продукта, чем двенадцать изолированных рабочих, работающих по 12 часов каждый, или один рабочий в течение следующих подряд двенадцати дней труда.
|
|
Видали таких? Оказывается, кооперация нужна как раз для насаждения духа конкуренции, для воспитания рыночного сознания! Капиталисты сгоняют толпы в цеха и офисы, чтобы одни подзуживали других — и все стучали друг на друга. После этого лингвистические игры россиян уже не кажутся безграмотной случайностью. Отсюда прямо вытекает ленинская бредятина о "социалистическом соревновании" — конечно же, при всепроникающей мерзости "учета и контроля". И совсем уже естественны апелляции к животности: человеческое общение — в плену дикой конкуренции, борьбы за существование; никакой разумности от быдла ожидать не приходится (к вящему удовольствию господ).
Дальше следует перл перлов — который не устают цитировать ехидные "ценители" творчества Маркса [23, 337–338]:
|
Причина этого заключается в том, что человек по самой своей природе есть животное, если и не политическое, как думал Аристотель, то во всяком случае общественное.
|
|
Вот так. Открытым текстом: "человек есть животное". Да еще и "по природе". Лучший подарок мировой буржуазии. Можно это было сформулировать иначе, с учетом уже наличествующих к тому времени марксовых тезисов об общественной сущности человека, об отличии сознательной деятельности от пчелиной архитектуры и человеческого восприятия от глаза орла? Поспешили, подумали, что и так сойдет... Вспомнить бы давешнему студенту-правоведу: все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
Используют. Тем более, что ляпов предостаточно — и нетрудно надергать цитаток, да скомпоновать так, что псевдо-ницшеанская Воля к власти покажется детской забавой. Что можно этому противопоставить? Только разум. Отказ от противопоставления. Чтобы не ссылаться на авторитеты, а действовать своим умом и чувствовать своим сердцем. Никто не решит наши проблемы за нас — и не поднесет свободу на золотом блюдечке. Насчет общаться и трудиться сообща — всегда пожалуйста. Но не по разнарядке сверху, и не ради успеха или побед.
* * *
Вслед за А. Н. Леонтьевым, мы определяем человеческое поведение как иерархию деятельностей — а субъект в контексте поведения есть личность. В такой трактовке, психология личности занимается прежде всего иерархией ее мотивов: что-то важнее другого, одни обращения иерархии предпочтительнее других. Альтернативный подход предлагает В. В. Столин (Самосознание личности — М. 1983): о личности мы судим по иерархии внутренних преград — и личностно характеризует человека как раз то, чего он не может себе позволить. Столин вполне согласен с Леонтьевым — и свою модель рассматривает лишь как дополнение и уточнение, другой способ говорить о том же самом. Тем не менее, сама возможность смотреть с другого бока заставляет задуматься о причинах этой дополнительности и о ее исторических перспективах.
По Столину, личность выражает себя не просто в деятельности, а в поступке, который он понимает как отношение мотива к преграде. И то, и другое может иметь как положительный, так и отрицательный смысл: мотивация соотносится с субъективной оценкой и расценивается как достойная или недостойная; точно так же, препятствие либо отвечает субъективным представлениям о недопустимости — либо стоит на пути к чему-то личностно желательному. Соответственно, удержаться от дурного — это поступок; переступить через себя и подчиниться дурным обстоятельствам — слабоволие. Аналогично, преодоление внутренней преграды ради нужного и важного — поступок; не решиться проявить себя — трусость или подлость.
У кого нет внутренних преград — "не совершает поступков, поскольку он не ограничен в выборе действий, не ограничен в выборе средств, ведущих к цели". Эдакий Мефистофель.
Если полагать, что бесклассовое общество снимает противостояние личности и общества и тем самым устраняет внешние и внутренние преграды, — получается, что в будущем не может быть личностей, одни мефистофели...
Но если есть иерархия деятельностей — есть и ее обращения, которые так или иначе отличаются друг от друга. То есть, личность в леонтьевском смысле все-таки возможна! Следовательно, проявление личности отрицательным образом, в виде иерархии препятствий, — типично классовое явление, и корни его надо искать в системе всеобщего разделения труда.
Классовый человек никогда не становится представителем общества в целом — он выражает лишь интересы коллектива (команды, группы, семьи, сословия, класса...). Коллективы же формируются по признаку доступности тех или иных деятельностей, областей культуры. Поэтому общественное производство не становится совместным трудом — оно соединяет участников внешним образом, в акте (товарного) обмена. Самосознание классовой личности — сознание межгрупповых границ. Человеческое "я" возникает как осознание собственной ограниченности, бессилия. Как один коллектив (класс) противопоставлен другому — так и человек противостоит человеку и обществу. Человек не узнает себя в другом — а видит отличие от другого; он еще не умеет отделить себя от коллектива: можно быть сколько угодно индивидуальным — но не стать личностью. Мы знаем, что в первобытном стаде человек не отделен от стада (которое тогда играло роль общества в целом); становление цивилизации разбивает первобытный синкретизм на конкурирующие группы — и в каждой группе эта раздробленность воспроизводится как различие общественных функций, ролей, — и внутренний мир субъекта отражает ту же разобщенность. То есть, как и в отношении к другому человеку, мы прежде всего осознаем не внутреннее единство, а отличие себя от себя — сложность и противоречивость. Все эти процессы исторически необходимы для рождения разума; капитализм доводит внешнюю и внутреннюю отчужденность до логического завершения — следующим шагом будет снятие барьеров и восстановление цельности как целостности, единства всевозможных сторон.
Акт обмена — элементарная единица рыночной экономики; точно так же акт насилия — строительный материал духовной культуры. Обмен — иллюзия равенства; насилие — иллюзия господства. В акте классового насилия один человек олицетворяет власть — в другом выражается ограниченность и бессилие. Отсюда и два типа личностных барьеров: чувство господства, владение собой, — и чувство зажатости, подчиненности непреодолимой силе. Но и то, и другое — загораживает путь к свободе.
Поскольку человек не отделяет себя от коллектива — мотивация приобретает оценочную окраску: все, что вписывается в нормы моего "общества" — это я; что характерно для других, конкурирующих структур — неправильно и вредно. Классовое самосознание просто переселяет внешние оценки внутрь субъекта, оказывается проекцией все той же системы общественных барьеров, взаимной отчужденности. Порицание и одобрение — автоматически становится внутренними преградами, выражением несвободы. Воспроизводство субъекта в этом контексте — это не расширение круга возможностей, а строительство все новых барьеров: каждая деятельность помечается как допустимая или недопустимая — в соответствии с общественным разделением труда, превращающим деятельности (как любые другие продукты) в собственность тех или иных групп. Так и получается, что иерархия деятельностей представлена в классовой личности иерархией запретов и требований. Поскольку самосознание возникает как сознательное воспроизводство самого себя — мотивом этой деятельности становится строительство барьеров или их преодоление, и тогда столинская картина личности полностью вписана в леонтьевское представление о личности как иерархии мотивов.
— это я; что характерно для других, конкурирующих структур — неправильно и вредно. Классовое самосознание просто переселяет внешние оценки внутрь субъекта, оказывается проекцией все той же системы общественных барьеров, взаимной отчужденности. Порицание и одобрение — автоматически становится внутренними преградами, выражением несвободы. Воспроизводство субъекта в этом контексте — это не расширение круга возможностей, а строительство все новых барьеров: каждая деятельность помечается как допустимая или недопустимая — в соответствии с общественным разделением труда, превращающим деятельности (как любые другие продукты) в собственность тех или иных групп. Так и получается, что иерархия деятельностей представлена в классовой личности иерархией запретов и требований. Поскольку самосознание возникает как сознательное воспроизводство самого себя — мотивом этой деятельности становится строительство барьеров или их преодоление, и тогда столинская картина личности полностью вписана в леонтьевское представление о личности как иерархии мотивов.
Что меняется после уничтожения классов? Нет внешних запретов, любая деятельность равно доступна всем, — значит, нет и внутренних преград; раз нет разделения общества в целом на соперничающие группы — исчезает само понятия соответствия групповым интересам, оценочная составляющая мотива. Всякая деятельность является непосредственно общественной — и интересы каждого совпадают с интересами всех. Разумные действия вообще не нуждаются в оценке — и нет ничего абстрактно хорошего или дурного; бесклассовое общество снимает различие этики, логики и эстетики: любое поведение при этом полезно и нравственно. История человечества переплетает ранее изолированные друг от друга линии личных историй — и каждая личность тождественна любой другой, и каждый свободен быть любым другим — и только таким способом становится, наконец, самим собой.
* * *
R. Hogan, Reinventing personality (1998)
(Journal of Social and Clinical Psychology 17, p. 4):
|
У нас имеются данные, ясно свидетельствующие о том, что с помощью личностных оценок можно прогнозировать целый ряд значимых результатов — включая академическую успеваемость, выбор профессии, выполнение работы и уровень доходов... И мы можем прогнозировать значимые параметры жизни человека на периоды длительностью от 20 до 30 лет.
|
|
Буржуазная психология отражает буржуазную реальность: стандартные тесты изначально ориентированы на типового обывателя, вылепленного классовой системой образования — и совершенно предсказуемого. Просто потому, что сами психологи — такие же обыватели, и ничего другого не могут себе представить. Поскольку поведенческие нормы всегда сопоставлены с аномалиями — те же тесты оказываются удобным инструментом (буржуазного) клинициста: слабые девиации интерпретируют как акцентуации, сильная разболтка — психическая болезнь (хотя по логике — это говорит лишь о неприменимости типовых шкал, о существовании неучтенных в модели качеств).
* * *
Szasz, The myth of mental illness (1961):
|
... большая часть трудностей на пути построения вразумительной теории человеческого поведения кроется в нашей неспособности (а порой в нежелании) отделять описание от предписания. Вопросы "Как устроены люди?", "Как они действуют?", "Каковы связи между обществом и индивидом?" можно и должно отделять от вопросов "Как людям следует действовать?" или "Каковы должны быть связи между обществом и индивидом?".
|
|
Точное выражение типичнейшего заблуждения буржуазной науки — и одного из краеугольных каменей эмпирионатурализма. Предполагается что господь-бог при сотворении мира отделил природу от человека — и нам остается только разгадывать божественные ребусы, постигая как оно уже есть, независимо от нас, — и стало быть, всегда таковым и останется... Те же вопросы можно ставить и не про людей — суть не меняется. Человек заранее признан вещью среди других вещей — ни о каком переустройстве мира и речи быть не может! Но тогда вопросы о том, как что-либо должно быть и как что-то следует сделать, — чистая демагогия: все равно все будет согласно природному (то есть, божьему) закону — и где-то что-то урвать удается вовсе не нашей умелостью, а исключительно милостью божьей. Разнузданная апологетика классового миропорядка.
Человек в мире не для того, чтобы следовать (якобы природным) законам — его работа состоит именно в предписывании природе того, как ей следует вести себя, чтобы нас это устраивало. Поэтому и к себе он подходит прежде всего с точки зрения разумности устройства — и общество хочет устроить на разумных началах. Если нынешнее положение дел нас не устраивает — мы сначала мечтаем о чем-то более человеческом, а потом ставим конкретные задачи и освобождаемся от мусора. Любая другая постановка вопроса — антинаучна и антигуманна.
Люди устроены так, как они себя устраивают. Действуем мы так, как считаем разумным. Общество не противостоит личности как самосущая абстракция — оно состоит из людей, и связаны мы не с "обществом", а с конкретными людьми. Человеческое поведение состоит именно в том, чтобы намеренно изменять мир и себя; абстрагироваться от этого в теории — значит строить теорию не про людей.
Разделение описания и предписания — калька классовой иерархии: одни издают указы — другие принимают это как должное. По счастью, такая "объективность" — лишь иллюзия, и потому наука все-таки возможна, вопреки попыткам академического клана загнать описания в рамки буржуйских предписаний.
* * *
У Кьеркегора есть забавный пассаж:
|
Все дело в том, чтобы быть восприимчивым к впечатлениям и всегда сознавать, какое именно впечатление производишь на девушку ты и какое производит на тебя она. Таким образом можно любить нескольких разом, так как в каждую будешь влюблен по-своему.
Любить одну — слишком мало, любить всех — слишком поверхностно; а вот изучить себя самого, любить возможно большее число девушек и так искусно распоряжаться своими чувствами и душевным содержанием, чтобы каждая из них получила свою определенную долю — тогда как ты охватил бы своим могучим сознанием их всех, — вот это значит наслаждаться, вот это значит жить!
|
|
Разумеется, речь вовсе не о жизни на несколько домов — все сугубо в "эстетическом" смысле, в рамках всестороннего развития духовности. Здесь Кьеркегор вплотную подходит к идее множественности (или иерархичности) любви: в мире духа просторно, и незачем толкаться ради теплого местечка; поэтому одна любовь не помеха другой — они всегда вместе, одинаково взаимны. Правда, когда доходит до практических реализаций — на каждом углу дележка собственности, и стоящая на ее страже "этика" (право, религия, мораль):
|
Под ясным небом эстетики все прекрасно, легко, грациозно и мимолетно, а стоит только вмешаться этике, и все мгновенно стано-вится тяжеловесным, угловатым и бесконечно скучным.
|
|
Один из обычнейших элементов "этики" — то, что сегодня ругают под именем "сексизм": аксиома "естественного" мужского превосходства — и потребительское отношение к женщине. Тут Кьеркегор во всем блеске откровенного филистерства — тоже своего рода талант: выставить не всеобщее обозрение, со всей определенностью, — чтобы уж никто не засомневался в возможности "диалектически" совместить пошлость с утонченным "эстетизмом".
|
Итак, женщина — это "бытие для другого"... Определение свое "бытие для другого" женщина разделяет ведь со всей природой и с отдельными частями ее, принадлежащими к женскому роду. Вся органическая природа также существует для другого — для духа; отдельные части ее — также; растительность, например, развертывается во всей своей могучей прелести не для себя самой, а для других. То же с другими категориями женского рода — загадка, тайна, гласная буква и т. д. — все это ничего не значит само по себе, все это — "бытие для другого". Вполне понятно, почему Творец, создавая Еву, навел на Адама сон: женщина — сновидение, мечта мужчины.
|
|
То есть, женское — это природное (и наоборот), а природа существует как таковая лишь в отношении к духу (которым, конечно же, наделен только сильный пол). Однако узурпированное превосходство играет с мужиками скверную шутку: вознесенные слишком высоко, они уже не в состоянии осознать реальность чего бы то ни было — и вся природа для них становится царством грез. Правящий класс паразитирует на теле народа: он реален только потому, что целиком и полностью зависим от своих рабов:
|
В самих отношениях между мужчиной и женщиной с момента ее освобождения его любовью кроется, однако, глубокая ирония. То, что существует лишь для другого, получает вдруг преобладающее значение: мужчина признается в любви — женщина выбирает; женщина по самому существу своему есть лицо побежденное, мужчина же — победитель, и тем не менее победитель преклоняется пред побежденной...
|
|
Вот и получается:
|
если в одном отношении мужчина стоит, пожалуй, выше женщины, зато в другом — бесконечно ниже.
|
|
Тем не менее, женщина
|
всецело подчинена определению, присущему самой природе, и свободна только в эстетическом смысле, в действительном же смысле становится свободной лишь тогда, когда освободит ее своей любовью мужчина. И если только он влюблен в нее как следует, не может быть и речи о выборе с ее стороны.
|
|
Остается только научиться влюбляться "как следует"...
|
И все-таки все это, в сущности, настолько естественно, что надо быть очень грубым, глупым и ничего не смыслящим в делах любви, чтобы вздумать игнорировать то, что раз навсегда установилось так, а не иначе.
|
|
Знакомая филистерская песенка: что сейчас в наличии — то и должно было свершиться, ибо иначе быть не может — и потому останется как есть на веки веков. Заигрывания с Гегелем — тоже "эстетика"...
|
Что же такое подразумевается под этим определением "бытие для другого", в чем оно состоит? В девственности женщины.
|
|
Во как! Нормальные герои брезгают секонд-хэндом! Им подавай в заводской упаковке, и чтобы без внешних повреждений... Лучше бы индпошив — но с бабами на заказ пока технология не катит. Остается надеяться, что семейное воспитание не подкачало.
|
Надо заметить, впрочем, что девственность — лишь отвлеченное понятие, и получает оно свое истинное значение "бытия" только тогда, когда проявляется в действительности, то есть отдается другому. То же самое можно отнести к понятию о женской невинности. Итак, если смотреть на женщину как на самостоятельное бытие, она исчезает, становится как бы невидимкой. Вот почему, вероятно, и не существовало изображений Весты, богини, олицетворявшей саму по себе вечную девственность. Стараться изобразить или хоть представить себе невидимое — значит ведь исказить самую сущность его.
|
|
Это в том смысле, что проверить товар можно только в брачную ночь; до того — абстракция в мешке. Так что смотрите в текст контракта насчет статьи о возврате бракованных; иначе точно облапошат! Бабы нужны только затем, чтобы их распечатывать; если перспектив нет — вроде как невидимка (вспомним про лису и виноград); после акта — уже не интересно:
|
Итак, самая сущность бытия женщины для другого состоит в ее чистой девственности, последняя же, как сказано, — понятие отвлеченное и становится действительностью лишь тогда, когда отдается другому, то есть перестает существовать, исполняя свое назначение.
|
|
Можно ли представить более барское отношение к женщине? Стать личностью, идти по жизни своим путем, — против буржуйских правил:
|
Если же она захочет проявиться в жизни в какой-нибудь другой форме, то единственно возможной является в таком случае форма прямо противоположная: абсолютная неприступность.
|
|
То есть, хотите замуж — не выпендривайтесь! Слишком умные никому не нужны. Жена — должна сидеть дома и тянуть хозяйство. Чать не аристократка какая-нибудь! Нормально — для буржуа XIX века...
Но вернемся к началу. Уберите из текста сексизм, дайте девушкам такую же свободу влюбляться во многих — но никому не принадлежать, а "охватить своим могучим сознанием их всех", — и вот вам принцип любви будущего, не завязанной ни на какую "этику" — но безусловно нравственной. Невинность в данном случае не в женщине, а том, кто прикасается к ней впервые (не только — и не главным образом — телесно); столь же логично усматривать невинность в мужчине — в отношении к именно этой, конкретной женщине. Вся жизнь — переоткрытие любви, когда за всяким трудом мерцает волшебство мечты; например, так:
|
В период сновидений и грез женщины можно, однако, различить две степени: когда любовь грезит о ней и... когда она сама грезит о любви.
|
|
* * *
Странный писатель Монтень — своего рода граница, переход от старого времени к новому. И одна из ярчайших примет — помещение самого себя в центр вселенной, рождение осознанного эгоцентризма, без которого буржуазное предпринимательство не смогло бы утвердиться в качестве мировой экономической системы. Можно считать Монтеня родоначальником рекламы: как ни пытается он изображать скромность и самокритичность — любование собой и тон превосходства прут из каждой буквы. Так что литературный и коммерческий успех — вполне объяснимы. И, как обычно случается, рупором приходящих к власти становится один из тех, кого они жаждут от власти отпихнуть.
До Монтеня — все пишут о ком-то другом (хотя и снабженном значительной долей авторских тараканов). Даже в лирической поэзии герою придают приличествующую собирательность и обобщенность; редкие исключения (вроде Мелена де Сен-Желе и Кристины де Пизан) только подтверждают правило. От своего имени — только в письмах и прошениях (да и то с уклоном в морализаторство, чтобы достоинства автора выглядели от природы достойными щедрого вознаграждения).
Утверждение себя в качестве высшей ценности — шаг к свободе, намек на будущую разумность человечества. В какой-то мере, в ту же точку наивные попытки разглядеть в себе человека, в единстве мысли и чувств. Но все это — в чисто буржуазной форме: личность начисто оторвана от общества — связана с ним только внешне, по воле случая, по прихоти судьбы. Отсюда интроспекция как единственно возможный метод. Именно эту буржуазную науку охотно заимствует у Монтеня современная буржуазия — включая Маркса, с его пресловутыми Петром и Павлом, которые используют (эксплуатируют) друг друга в качестве зеркала (не замечая субъективности, творческой силы, духа). Чтобы не отыскивать в другом себя, а усматривать в каждом свое и чувствовать свою причастность, — до этого человечество пока не доросло. Здесь Монтень до сих пор впереди планеты всей — и некоторые фразы можно запросто понять как посягательство на устои. Например, на институт интеллектуальной собственности:
|
Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то и то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаково. Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.
|
|
Здесь не Монтень — так утверждаем мы. Но скажите это борцам с книжными и компьютерными пиратами — или чинушам от науки, требующим навешивать сноску на каждый типографский знак! Чуть ли не все искусствоведение — зиждется на поисках заимствований и прототипов. Припишите любую глупость попсовой знаменитости — и это уже бессмертный афоризм (или мем).
Тут, кстати, и о революционной педагогике, которая не навязывает готовых решений, а предоставляет каждому образовываться самому, активно лепить себя как личность. И совершенно немыслимый для рыночного "мыслителя" призыв к свободе:
|
Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу.
|
|
И грустный вердикт:
|
Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит; да ничего и не ищет.
|
|
К сожалению, в остальном Монтень вполне традиционен — но можно его уважать хотя бы за то. что апелляции к Сократу (à la Платон) и Аристотелю отнюдь не формальны — они совершенно по существу, именно так сам Монтень представляет себе суть дела, с одной маленькой поправкой: для Аристотеля человек — существо политическое, что в буквальном переводе с греческого не франкский значит: буржуазное; только, вот, античный полис — не то же самое, что возникший через пару тысяч лет бург, и перенос старинных анекдотов в новый контекст не обходится без сокрушительной модернизации.
|
Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что и я здесь только собрал чужие цветы, а от меня самого — только нитка, которой они связаны.
|
|
Скажет правильно; однако иная ниточка бывает стократ драгоценнее повязанных ею цветочков! Однако дерьмо остается дерьмом и в золотой шкатулке с бриллиантами — и остается только сокрушаться:
|
Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли: Fortunae miseras auximus arte vias.
Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, более естественный путь, который и впрямь является и более удобным и более праведным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.
|
|
Вот глас разума! Человек сам устраивает свой мир — и вовсе не для того, чтобы искать новых лишений да невзгод. Впрочем, ныне здравствующие главы позаботятся, чтобы не дать ходу подобным самозванцам...
Среди других находок — точное экономическое обоснование буржуазной истории:
|
Нужда обтесывает людей и сгоняет их вместе.
|
|
Может быть, Карл Маркс — тоже отсюда? Но продолжение намного интереснее — и диалектичнее: оказывается, все это нужно для того, чтобы дать людям возможность не быть вместе!
|
Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя, где мог бы отдаться личным заботам о себе или укрыться от чужих взглядов!
|
|
Перед этим Монтень расписывает, какой он общительный (хотя и устает в компании); однако без укромного кабинета (примечательная деталь: с отдельным отапливаемым сортиром!) — просто никак нельзя.
Но и это не предел. Уединение тоже не самоцель — оно для творчества, чтобы смотреть на мир со стороны (даже где-то свысока) и прикидывать возможные реконструкции. Ради такого дела можно даже урезать вышеупомянутое "полное и цельное наслаждение".:
|
Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от союза с моей женой.
|
|
Тем не менее, застаиваться в сколь угодно возвышенной ипостаси — не для разумного существа:
|
Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя.
|
|
Сильно сказано! Что хорошо — то хорошо.
|
Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной: для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение.
|
|
Ну, не хотим мы после этого перекапывать тонны буржуазной гнили в трех толстых томах! Лучше вспомнить что-нибудь для порядочного буржуа совершенно неприличное:
|
Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили собой самую сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научили женщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не постыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства. Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчиняемся этому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно, — и никто этому запрету не подчиняется.
|
|
Первую часть (по поводу нецензурности) — рынок уже спихнул в архив (что, впрочем, ни на микрон не убавило формул вежливости и дресс-кода). Научиться следовать голосу разума — намного труднее. Звонкая монета весомее звонкой идеи (которая вообще ничего не весит, пока не пущена в оборот, не монетизирована). Бездарь лучше вписывается в рыночную стихию — и без лишних щепетильностей встанет при случае на защиту мирового капитала, в том числи и в разного рода литературе.
|
Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы взашей и меня, и сотни других.
|
|
Прогнать можно. Но кто затечет в вакуум? Опять же, разобраться без семи пядей не получится — а где их взять? Бездарность кое-кому очень полезна — и потому отнюдь не никчемна. Никчемность может быть просто гениальной. Так, может, не махать кулаками и декретами — а честно трудиться, кто сколько сможет, на каком угодно поприще, — но с оглядкой на разумность продукта, чтобы мухи таки отдельно от котлет:
|
Когда я танцую, я занят танцами, когда я сплю, я погружаюсь в сон.
|
|
* * *
Эмпирионатурализм выносит причины явлений в дикую природу вне человека — и тем самым мистифицирует их, объявляет априорными первоначалами. Не удивительно, что самые рьяные поборники сведения духа к природным движениям оказываются в итоге столь же верными адептами всевозможных религий — выводят их из "природы человека" и объясняют природу волей мифического "творца" (не обязательно представимого единичным существом). Чем больше большие ученые ковыряются в мозгах — тем более безмозглой оказывается в итоге их философия.
Типичный пример — Р. М. Грановская, которая очень интересно работала в советское время в области логики работы мозговых структур; ее книга Восприятие и модели памяти (1974) стала манифестом того, что сейчас называют искусственным интеллектом. Но после переворота запал кончился, учить компьютеры учиться стали молодые, — и вот уже перед нами проповедник мистической сути психики и безусловной необходимости поповщины для сохранения миропорядка:
|
Религия и сегодня продолжает оставаться хранительницей вневременных ценностей, забвение или разрушение которых означало бы универсальную деградацию.
|
|
Точно так же, свихиваются в религию математики и физики, лингвисты и биологи... Мистика в тренде: за что хорошо платят — то и божий дар!
* * *
Иногда классические цитаты полезно чуточку переврать — если при этом заиграют ранее невидимые грани... Вот, например, из рукописей Маркса [46.1, 21]:
|
Итак, когда речь идет о производстве, то всегда о производстве на определенной ступени общественного развития — о производстве общественных индивидов.
|
|
Тут мы спотыкаемся о языковую двусмысленность (про язык — см. ниже в завершении цитаты): что если понять это наизнанку — и считать, что речь о производстве не чего-нибудь, а общественных индивидов par excellence? То есть, мы, конечно, переделываем природу и меняет вселенский ландшафт — сколько угодно; но занятие это нам важно не само по себе, а как возможность воспроизводить себя в качестве разумных существ, носителей разума. Не материальное производство порождает всяческую духовность (хотя, конечно, без это материи духу разгуляться негде) — а наоборот, универсальность рефлексии требует развития производства не абы как, а вполне определенным образом, так что наше сознание очень даже влияет на наше бытие! Смысл всего последующего с учетом этой взаимосвязи материального и духовного производства круто меняется — и надо честно отслеживать соотношение уровней в каждую историческую эпоху.
|
Может поэтому показаться, что для того, чтобы вообще говорить о производстве, мы должны либо проследить процесс исторического развития в его различных фазах, либо с самого начала заявить, что мы имеем дело с определенной исторической эпохой, например с современным буржуазным производством, которое и на самом деле является нашей подлинной темой. Однако все эпохи производства имеют некоторые общие признаки, общие определения. Производство вообще — это абстракция, но абстракция разумная, поскольку она действительно выделяет общее, фиксирует его и потому избавляет нас от повторений. Однако это всеобщее или выделенное путем сравнения общее само есть нечто многообразно расчлененное, выражающееся в различных определениях. Кое-что из этого относится ко всем эпохам, другое является общим лишь некоторым эпохам. Некоторые определения общи и для новейшей и для древнейшей эпохи. Без них немыслимо никакое производство. Однако хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, все же именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие. Определения, имеющие силу для производства вообще должны быть выделены именно для того, чтобы из-за единства, которое проистекает уже из того, что субъект, человечество, и объект, природа — одни и те же не были забыты существенные различия.
|
|
Разжевывать не будем: имеющий голову — пусть имеет. Но глянем на другой фрагментик, в том же томе [46.1, 198]:
|
Деньги как капитал — это такое определение денег, которое выходит за пределы их простого определения как денег. Деньги как капитал можно рассматривать как более высокую реализацию денег, подобно тому как можно сказать, что обезьяна развивается в человека.
|
|
Ловим из фона: отличие человека от животных — не чистое количество! Это принципиальная разница. Люди (как экономические агенты) — двигают деньгами; но капитал — двигает (такими, ограниченными) людьми! Но дальше — гениально об истоках (классовой) привычки запихивать разум в биологические (или иные) тела:
|
Однако в таком случае более низкая форма выступает в качестве носителя более высокой формы, доминирующего над ней. Как бы то ни было, деньги как капитал отличаются от денег как денег. Это новое определение нужно разобрать. С другой стороны, капитал как деньги кажется возвращением капитала к более низкой форме. Но это есть лишь полагание капитала в такой особенности, которая, как некапитал, существует уже до него и составляет одну из его предпосылок. При всех позднейших отношениях снова встречаются деньги, но тогда они функционируют уже не как простые деньги. Если, как в данном случае, дело прежде всего идет о том, чтобы проследить развитие денег вплоть до их совокупного целого в виде денежного рынка, то развитие других отношений при этом предполагается и время от времени должно включаться в исследование. Так, в данном случае, прежде чем перейти к особенности капитала как денег, нужно рассмотреть общее определение капитала.
|
|
В переводе: сознание как психологический феномен — предполагает наличие сознания как явления более высокого уровня; психология (как и физиология) человека — имеет дело не с чисто психическими (или органическими) движениями, а с тем, как они видоизменяются, будучи включенными в общественно-исторический процесс. Деньги — один из возможных носителей капитала (его денежная форма); особь вида homo sapiens — лишь один из возможных носителей разума, один из способов воплощения духа, — при том, что другие варианты тоже не исключены. Как минимум, органическое тело дополняется неорганическим — миром окультуренных вещей и общественных отношений; может быть, где-то в другом времени, есть еще что-нибудь?
Примечания
01
Вспоминаем проблески супружеской любви в Средние века — от Прекрасной Альды до Кристины Пизанской.

02
Про "экономику", а тем более "политическую экономию", там настоятельно требуют забыть — давайте просто играть числами!

03
Такое сужение общественного до группового получило выражение в языке: для феодального сознания общество — это сословие; для буржуа — это компания, бизнес.
