Индустрия духа
Может показаться странным, что главу о духовном производстве мы помещаем в раздел о материальных предпосылках разума, о телесности. Когда человек намеренно воспроизводит себя в качестве субъекта деятельности — пересоздает свой дух, — он, вроде бы, преодолевает ограничения плоти и волен как угодно менять природу. Но споткнемся на фразе: в качестве субъекта деятельности. То есть, всякий продукт не сам по себе — а для чего-то, и воспроизводится он именно в этой определенности, а не вообще. А дух в наиболее полном выражении — универсален, он вбирает в себя все возможные качества; производство субъекта — это уже ограничение, и продукт духовного производства лишь частично духовен. Собственно духовность начинается там, где мы уже не привязаны к объекту — и не полагаем себя как продукт. Раздел о любви — про это. Когда мы любим — мы вовсе не думаем ни о каких объектах или продуктах: для нас есть только субъект, дух, любимое существо. Малейшая утилитарность — смерть любви. Однако связь одного субъекта с другим — общественно опосредована; а как такое возможно, если на этом уровне ничего кроме субъекта и нет? Вот тут и приходит на помощь духовное производство: дух как его продукт как раз и становится "переносчиком взаимодействия" на уровне духовности, объектным бытием субъекта.
Чисто практически вся эта философская высоколобость проста и понятна: духовное производство начинается там, где мы осознаем себя как движущую силу производства — и стараемся эту способность сохранить и преумножить. Животные (а теперь и машины) умеют решать сложные технологические задачи, выстраивать технологические цепочки — и учиться друг у друга. Это называется интеллектом. Отличие человека в том, что он не просто получает продукт, но и обнаруживает себя в нем; сама по себе вот эта, единичная вещь может никак не отличаться от других — но для человека она плод его труда. Человек осознает свою разумность, включая вещи в себя, делая их своим неорганическим телом. Для животного — важна только утилитарная сторона, возможность потребления, польза; сделанное другими или возникшее как-то иначе — для него столь же годны, и о своем участии в производстве животное тут же забывает. У человека память деятельности распространяется и на других людей: примитивное представление о своем продукте уступает место идее общественного продукта, совместного труда.
Способность обнаруживать себя (или себе подобного) в продукте деятельности называют рефлексией (в узком смысле: как частный случай отношения мира к самому себе, представленность этой, всеобщей рефлексии в субъекте — то есть, разум). Превращенная в особую деятельность (или сторону, или уровень деятельности) — рефлексия и есть духовное производство.
Отсюда ясно, что говорить о рефлексии возможно лишь там, где уместно сопоставление материального и духовного производства, — на определенном этапе развития духа; на других уровнях разумности потребуются иные категории. Классовая культура не только различает материальное производство и рефлексию — но и противопоставляет их друг другу, делает достоянием разных общественных слоев.
В общих чертах, духовное производство устроено так же, как и материальное: это две стороны единого способа производства. Обычным образом, духовное производство соединяет производительные силы и производственные отношения — и представляется циклом производства и потребления; в условиях всеобщего разделения труда возникает также представление о творческих способностях и творческой потребности, которые эмпирионатурализм противопоставляет качествам рядового обывателя как природную одаренность и предрасположенность (талант и гений). Однако по сути это никак не отличается от строения субъекта материальной деятельности: сантехник "от бога" ничуть не вульгарнее гениального музыканта или математика — а в некоторых ремеслах (например, у портного, гончара или повара) материальное и духовное производство синкретически соединены, неразделимы.
Особенность духовного производства в том, что оно пересоздает не вещи сами по себе, а общественно опосредованные отношения между вещами. Материальное производство часть окружающей человека среды превращает в полезный (то есть, предполагающий определенное использование) продукт; оставшаяся часть природы играет роль предметных условий и орудий труда — их цикл воспроизводства характеризуется другими (более пространными) масштабами и временами. В итоге человек меняет свою среду — что позволяет запустить следующий цикл производства, иногда в другом направлении. Это и выражает формула материального производства:
O → S → O
Легко заметить, что субъект здесь играет роль связи между объектами; однако это связь особого рода, отличная от природных взаимодействий и взаимозависимостей, от "порядка вещей". Именно присутствие таких, не характерных для природы отношений указывает на вмешательство разума; и наоборот, как только искусственно созданное начинает развиваться само по себе, безотносительно к задачам создателей, — происхождение уже не играет роли, и речь идет о чисто природном процессе.
Духовное производство — делает объектом идеальную связь вещей и порождает столь же идеальные связи, что мы и выражаем формулой
S → O → S
Сопоставляя это с формулой материального производства, приходим к выводу, что объект в духовном производстве играет роль субъекта, способа преобразования одной субъектности в другую! Как такое возможно? Ясно, что все восходит к самой возможности делать субъекта объектом и продуктом производства, — то есть, далеко не всякий объект и не во всех отношениях может играть роль посредника. Предварительно объект должен быть пропитан культурой настолько, что его природная основа отходит на второй план — становится лишь носителем духа, взятого с одной из сторон, в отношении к природе. Такой объект мы называем идеей. Собственно, всякий продукт содержит в зародыше некоторую идею; но производство идей как таковых есть одухотворение природы — и в этом суть духовного производства: природа уже не сама по себе — она становится носителем духа.
Поскольку установление отношений между объектами через субъекта — часть материального производства, одухотворение ведет к изменению вещей как таковых, наделяет их новыми, неприродными качествами, иногда разительно меняя характер движения. Пусть, например, субъект S потребляет сразу два объекта:
O1 → S
O2 → S
Это означает, что объекты иерархически подчинены субъекту:

Другими словами, оба объекта принадлежат более низкому уровню субъекта — и в этом плане они сравнимы, и даже эквивалентны. Тем самым и для субъекта они становятся иными — идеально связанными, подуровнями некоего нового объекта, идеи единства:
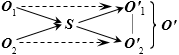
Субъект присутствует в объекте O' как его иерархичность, связанная не с природными качествами, а с включением в строение культуры.
Косвенная связь может при обращении иерархии стать обычной материальной связью. Это соответствует ее закреплению в практике, когда опосредование становится объективным, приобретает природный характер. От схемы
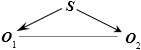
мы переходим к обычным схемам материального производства:
O1 → S → O2
O2 → S → O1
Аналогично субъектно опосредованные связи возникают и при совмещении деятельностей: один субъект участвует в производстве разных продуктов. Чем разнообразнее иерархия деятельности — тем мощнее духовное производство: идеальность субъекта воспроизводится все полнее, в перспективе захватывая любые природные и общественные отношения. Обратно, всякая специализация, ограничение рамками одной деятельности — приводит к вырождению субъекта в объект, осуществляющий чисто природное опосредование; психологически, человек чувствует себя винтиком какой-то машины, не может вырваться из колеи, по-своему повернуть происходящее.
Духовное производство неразрывно связано с материальными изменениями — но представляется прежде всего производством идей. Это меняет характер потребления (отражения, усвоения, поглощения...) его продуктов: в каждом цикле духовного производства мы используем не материальную оболочку идей, а сами идеи, идеальные связи вещей. Например, в произведении искусства нам важно не из чего это сделано и какая форма придана природному материалу — нам важно, как эта природность выражает общественные отношения, строение культуры. Мы усматриваем идею лишь поскольку мы участвуем (или способны участвовать) в соответствующих деятельностях; поэтому восприятие искусства богаче у людей с более широким кругозором: они видят больше косвенных связей — и могут активно формировать их. Идеи не просто воспринимают (или принимают) — их воспроизводят в себе, заново выращивают, поднимают на уровень духовности. Схема духовного производства S → O → S допускает поэтому и такое прочтение: человек + идея = новый, более разумный человек. Но тогда и схему материального производства O → S → O в каких-то случаях допустимо трактовать как производство идей; так на этом уровне выражается относительная независимость духа от материи, что в идеалистической философии превращается в иллюзию существования идей самих по себе. Именно эту, вторую схему мы обнаруживаем каждый раз, когда духовное производство в сознании обывателя сводится к производству вещей: произведений искусства, научных теорий, или философских трактатов. Буржуазная (рыночная) экономика тут же узаконивает формы продукта, превращает фабрикацию подобных поделок в надстроечный институт. Поэзия сводится к стихам, живопись к картинам, наука к публикациям в соответствии с академическим стандартом... Все это вещи, которые можно производить и потреблять обычным образом, не задумываясь об их идейном наполнении. ходячие представления о "чистом" искусстве и "чистой" науке — которым достаточно случайного комбинирования типовых элементов, в результате которого само собой возникнет что-нибудь "эстетическое" или "наукообразное". Другая сторона того же вещного отношения к субъекту — лозунг утилитарного искусства и популяризация науки: действительное приобщение широчайших масс к духовности подменяют тиражированием ходячих стереотипов. Высокоразвитые технологии позволяют кому угодно соблюсти формальные требования к якобы духовному продукту — и вульгарный дилетантизм, как будто, уже не уступает творениям "профессионалов"; поток псевдоискусства и псевдонауки захлестывает духовное производство в классовом мире, опошляет разумность.
Для рынка человек — всего лишь рабочая сила и потребитель. Нельзя продать идею — но если допускается бытование идей лишь в определенных формах, в установленном свыше вещном представлении, торговлю такими вещами легко выдать за рынок идей. Новым формам приходится преодолевать инертность рынка, отвоевывать рыночные ниши — и становиться столь же пошлыми суррогатами духовности. Только там, где за вещами видят отношения людей, — возможно духовное производство в собственном смысле слова, как рост субъекта.
В качестве иллюстрации — смешной вопрос. Когда мы производим что-то "духовное" — участие в этом материального производства особых сомнений не вызывает: как минимум, надо изготовить то, в чем духовный продукт будет представлен, — ту вещь, которая будет нам напоминать о нашем (творческом) труде. Но когда мы потребляем продукты духовного производства — их вещная оболочка от этого никак не расходуется: можно сколько угодно смотреть на картину, всем вместе и поодиночке, — ничего драматического с ней не произойдет, и если какое-то старение и наблюдается — то вовсе не от благоговейного созерцания. Где здесь материальное производство, изменение вещей? Разумеется, зрение улавливает отраженные от картины фотоны — но это физическое взаимодействие практически не меняет ни картину, ни зрителя. Лишь в особых случаях потребление духовного продукта связано с разрушением его вещной оболочки: например, слушать запись музыки можно много раз — но в концертном исполнении ее материя уникальна. Тем более не очевидно, как материальное и духовное производство могут участвовать в эстетическом восприятии природных явлений, когда, казалось бы, мы лишь впитываем уже готовую (и заведомо не человеком сделанную) красоту.
Вот здесь самое время вспомнить, что духовное производство — изменяет субъекта (хотя бы только с одной стороны, как производителя и потребителя). Но субъект всегда представлен совокупностью тел и отношений между телами — так что любые "внутренние" движения" неизбежно выражаются в перестройке этого "внешнего" представления. Сами по себе природные явления (или продукты как вещи) не несут в себе ничего духовного — чтобы отыскать в них духовность, надо хорошо потрудиться! Мы не просто любуемся природой (или познаем ее) — мы привносим туда свой дух, устанавливаем такие связи между вещами, которых без нас не могло быть. Если же потом поделиться впечатлениями с кем-то еще — диапазон возможных связей резко расширяется, и явление природы становится явлением культуры. То есть, мы начинаем с творческого акта, преобразования объекта по схеме материального производства O → S → O, и превращаем его в идею (связываем с миллионами других вещей, вписываем в культуру); тогда возможен цикл духовного производства S → O → S, воспроизводство духа через объект, который в данном случае представляет в свернутом виде нашу преобразующую деятельность.
Отсюда прямо следует, что человек, не умеющий работать с вещами, не сможет участвовать и в духовном производстве. Основной прием классового принуждения — ограничение доступа общественных слоев к средствам производства, разделение труда: это автоматически приводит и к ущербности духа. Как общественный институт, это насилие есть право собственности. Независимо от формы собственности (частная, групповая, общественная), собственник не может стать в полной мере разумным — преодолеть барьеры на пути духовного развития.
Пейзаж прекрасен не сам по себе — а лишь с определенного ракурса, найти который — акт духовного производства. Потом местность облагораживают, обустраивают так, чтобы сделать именно такой ракурс предпочтительным — и добавляют разного рода удобства (пути доступа, скамеечки, парапеты, таблички с пояснениями, видоискатели и т. д.). Материальные преобразования налицо; при этом чрезмерные усилия могут убить красоту, опошлить открытие. Высший уровень духовного производства — не просто натолкнуться на что-либо интересное, а сделать самим, сотворить "из ничего", силой духа. Так, ландшафтный дизайн порождает прекраснейшие уголки природы, рукотворность которых не бросается в глаза — но любоваться можно бесконечно. Продуманное дизайнерское решение придает особую прелесть миру, делает его намного удобнее.
Потребление духовного продукта не уничтожает его, а наоборот, открывает в нем новые грани, расширяет его культурный диапазон, делает более содержательным. Это не движение вещей, а перестройка отношений между людьми. Нечто подобное существует и в сфере материального производства: например, потребление условий и орудий труда почти не затрагивает их вещную оболочку — мы используем их идеальность, возможность включения в производство определенным образом. Но можно ли считать, что производственное помещение (как условие труда) потребляется духовно? Очевидно, нет. Это связано с тем, что связь условий и орудий труда с производственным процессом объективирована, закреплена в практике. Тем не менее, для новых производств, освоение производственных мощностей вполне может быть духовным производством; более того, практически все элементы материального производства могут стать (и становятся) материалом рефлексии, открывая неожиданные направления развития субъекта.
В отличие от собственно духовного развития, субъект в духовном производстве воспроизводится лишь в объективированных формах, как часть материальной культуры. Да мы узнаем себя в происходящем — однако сознание себя не есть самосознание! Мы способны порождать идеи — но эти идеи противостоят нам внешним образом, как нечто способное обойтись и без нас. Чтобы идея стала духом — недостаточно производственных задач: требуется еще и духовное отношение человека к человеку, в котором нет места производству — и остается только свободное общение, сознание себя как другого — а следовательно, и самосознание. Единство сознания и самосознания — разум.
Разумеется, на пустом месте самосознание на вырастет — и потому важно дополнить материальное производство духовным, производством идей. Как и в материальном производстве, здесь есть свои уровни и этапы развития, и разные способы развертывания этой иерархии. Остановимся на одной из возможностей — не переставая заботиться об уместности полученных схем в контексте практических задач.
В качестве основания используем соотношение духовного и материального производства — выделяя уровни синкретической, аналитической и синтетической рефлексии.
Характерная черта духовного производства — "расщепление" его продукта на два уровня: с одной стороны, то просто вещь, которую можно по-разному использовать; с другой стороны — это выражение идеи, знак нашего представления о самих себе (то есть, по сути, представитель некоторой области общественных отношений). Конечно, целостное производство всегда оказывается единством материального и духовного производства — однако здесь мы на первый план выводим рефлексию, осознание способов собственной деятельности (а не вещей, как в материальном производстве). Первоначально наша способность действия неотделима от самого действия — и продукты духовного производства синкретически впаяны в произведенные нами вещи. При виде чего-то мы тут же вспоминаем, как это принято использовать — и как это следует изготовлять. Разумеется, у каждого свой круг опыта, и не всегда удается сообразить, что для чего. Тем не менее, все вместе мы многое о себе знаем — и эта двойственность используемых нами вещей получает внешнее выражение в языке: у вещей есть имена — а название уже предполагает встроенность субъекта в объект. Язык — предвестие аналитической рефлексии на уровне синкретизма.
Собственно аналитичность начинается там, где вещь намеренно производится как знак чего-то другого, а не для непосредственного (вещного) потребления. Произведенные на этом уровне вещи — это прежде всего продукты духовного производства (хотя их вещная оболочка, в принципе, не исключает и других применений: например, в листок с нотами или стихами можно завернуть товар в магазине — или подпереть дверцу шкафа научным трактатом).
Однако внутри аналитической рефлексии развитие снова (хотя и в других отношениях) идет от синкретизма к аналитичности, и потом к синтезу. Эти три уровня аналитической рефлексии в классовом обществе превращаются в особые общественные институты, известные как искусство, наука и философия. Вообще говоря, отрасли материального или духовного производства вовсе не обязаны быть формально отделимыми друг от друга: все в культуре взаимосвязано — и занятия искусством, наукой или философией не исключают материального производства, и наоборот. Профессиональный художник, ученый или философ лишь небольшую часть жизни занят собственно рефлексией; все остальное (официальная биография) — посвящено воспроизводству инфраструктуры, материальных условий творчества, — а то и просто животному выживанию в мире всеобщего разделения труда и рыночной конкуренции. Мы будем говорить об искусстве, науке и философии как уровнях рефлексии — безотносительно к существующим общественным институтам.
Особенность искусства — способность какую угодно вещь сделать представителем духовного (художественного) продукта. Этим искусство подобно синкретической рефлексии — и путь в искусство у многих лежит через ремесло; но сделать что-то красиво — не то же самое что сделать красоту: разные мотивы деятельности, разные практические задачи. Художник может работать с любым материалом — но вещи для него важны не сами по себе, а как носитель субъектности, способа действия и отношения к миру. Часто художники пробуют себя в разных искусствах, комбинируют разные выразительные средства, — и само различение искусств в наши дни стало чистой эфемерностью.
В отличие от искусства, наука обращает внимание и на способы рефлексии — и приводит духовный продукт к единому стандарту (материалу); при этом самые разные предметные области возможно представлять и организовывать единообразно, используя специально для этого выработанный формальный язык. От художественного произвола не остается почти ничего. Формальность науки, помимо всего прочего, позволяет высвободить рефлексию из синкретичности естественных языков: как и художественные образы, способные прижиться на почве разных культур, — научные понятия не зависят от материала языка и свободно переводятся с одного на другой. Это похоже на художественное освоение самых разных материалов — но вместо предметов (явлений) как таковых в науке используются их знаки (производством которых как раз и занимается искусство).
Отделенность научной формы от предмета, по видимости, делает рефлексию более универсальной, позволяя комбинировать символы как угодно, соединять несоединимое, надстраивать одни абстракции над другими. Однако это, скорее, иллюзия универсальности: связываем мы не вещи, а лишь наши фантазии — и вместо единства мир разваливается на бесконечность никак не взаимодействующих форм. В качестве подготовки к предметной деятельности — можно потренироваться на абстрактных идеях; но в этом плане наука ничем не возвышеннее искусства — это разные стороны одного и того же.
Следующий уровень аналитической рефлексии — философия, синтез искусства и науки. Приводить все к единству — основная задача философии; поэтому она (подобно искусству) возможна в форме любой другой деятельности — но (подобно науке) приводит результаты рефлексии к единообразию категорий и категориальных схем (которые часто представлены в виде философских трактатов — хотя с таким же успехом могут существовать и как совокупность приемов, и как особый взгляд на мир, или манера поведения). Аналитичность философской рефлексии по-прежнему выражается в намеренном отделении духовного продукта от представляющих его вещей, от образа жизни. Однако осознание единства мира требует и единства субъекта; поэтому философия редко остается всего лишь производством идей — она воспитывает активное отношение к миру, намерение привести его к единству (устанавливая тождество каждой вещи и ее идеи).
Аналитическая рефлексия освобождает человека от природных факторов, влияющих на его деятельность — выделяет идеи "в чистом виде", абстрактно; это позволяет говорить о соответствии производства имеющимся на данный момент возможностям — и ставит вопрос об изменении способа производства. Каждый из уровней аналитической рефлексии представляет одну из граней этой свободы: искусство — это свобода обращения с материалом; наука — свобода комбинирования форм; философия — свобода выразить любое содержание в единстве подходящего материала и соответствующих форм. Но вне деятельности любая свобода остается лишь абстрактной возможностью, и мечты легко подменить иллюзиями. Освобожденный от материальных производств, человек не свободен от этой формальной свободы, от рефлексии. Отсюда узость взглядов, которую мы так часто наблюдаем у "кабинетной" интеллигенции. Крутить всю жизнь гайки на конвейере, играть на скрипке, или писать формулы, — большой разницы нет. В конечном итоге интеллигенты больше простых работяг склонны к филистерству: их мнимая свобода нуждается в тепличных условиях — и драматические перемены великим художникам, ученым и философам не ко двору.
Мостиком от рефлексии к духу служит синтетическая рефлексия, в которой духовный продукт снова сливается с предметом — но при этом не теряется в нем, а существует в качестве особого уровня, не как идея вообще — а как идея именно этого предмета. Собственно, только на этом уровне можно говорить об идеях как таковых, потому что беспредметная идея — всего лишь полуфабрикат, и от этой абстракции надо восходить к конкретности. Продукты синтетической рефлексии не могут быть представлены никакими знаками или языками — они существуют только в деятельности, как способ ее организации и ее направленность. В зависимости от того, как именно мы встраиваем идеи в предмет, можно выделить три обращения синтетической рефлексии: эстетика, логика, этика. Это не виды, не отдельные формы — и тем более не общественные институты, — это стороны одного и того же, тесно взаимосвязанные в каждом конкретном деле. Всякое деяние (поскольку оно сознательно и разумно) следует определенной логике, выражает эстетическую позицию, руководствуется этическими принципами. Человек может не отдавать себе в этом отчет — но это всегда так. Поскольку мы обращаем внимание на идейное содержание наших действий, эстетика, логика и этика могут представлены в аналитической рефлексии — но это вовсе не то, как они встроены в нашу деятельность. Классовая привычка все расставлять по раз и навсегда заданным полочкам ведет к традиции увязывать эстетику с искусством, логику с наукой, оставляя этические соображения в ведении философии. Точка зрения крайне убогая и заведомо не отвечающая повседневному опыту. Так, художественность невозможна без особой, художественной логики, которая часто заставляет автора творить вопреки исходным намерениям. С другой стороны, даже безнравственность в искусстве не случайна, а выражает определенную этическую позицию. Аналогично в науке мы на каждом шагу сталкиваемся с эстетическими и этическими суждениями, и научная работа не следует одной лишь логике. Об идеях можно говорить и языком искусства, и языком науки, и на уровне философских категорий. Однако ни одно из этих частных представлений не схватывает идею целиком — показывает в одном из контекстов, в одном ракурсе. Математическая логика имеет к логике весьма отдаленное отношение; философская эстетика или этика — лишь проекции на тот или иной способ философствования. Только в единстве всех уровней аналитической рефлексии возникает идея как особое, синтетическое качество рефлексии. Только так рефлексия становится действительно универсальной — относится к любой из сторон мира.
Что дальше? Очевидно, выход за рамки духовного производства, рефлексии. Туда, где материальное производство становится духовным, и наоборот, духовное производство преобразует мир. Такое единство преобразующей деятельности человека (как выражение его разумности) мы называем практикой. Материальное и духовное производство — стороны практики, воссоздающей как телесную оболочку субъекта, так и его дух. В практике все предстает продуктом деятельности, в котором неразделимы (одинаково существенны) объект и субъект. О практике нельзя судить по одной из сторон — в ней нет второстепенного, и важна именно всеохватность, разнообразие, свобода переходов и превращений. Тем не менее, в отношении к себе (как субстанция), практика может выглядеть и практикой материального производства, и практикой рефлексии. Точно так же, уровень практики присутствует в каждой деятельности (например, в экономике, и в любой из ее компонент) — но не как эмпирическое содержание, а как опыт, историческая тенденция, направленность развития. Другими словами, практичность любого производства — характерный дух, иногда явно обнаруживающий свое присутствие — иногда скрытый за внешней механичностью или органичностью. В частности, производственные отношения субъектов в практике перерастают нужды производства и превращаются в творческое общение, в духовные (не ограниченные производством) отношения свободных людей, личностей, которые не привязаны ни к одной деятельности и потому способны участвовать в любой из них. Но про это мы будем говорить позже, в разделе о любви.
|