* * * В самом названии книги очерчен круг ее пороков. Философия есть учение о единстве мира, она имеет дело с универсалиями — и сама универсальна. Можно говорить о философии чего угодно (и философия марксизма требует такой конкретности) — однако любые уточняющие эпитеты к слову "философия", разговоры о какой-то определенной философии — сразу же переводят вопрос в узко прикладную сферу. Философия только одна — она не может быть ни "нравственной", ни "аналитической", ни еще какой-нибудь. Любое идейное течение несет в себе, помимо всего прочего, и что-то от философии, поскольку оно утверждает нечто универсальное, касающееся мира в целом — и разума в любых его формах как части единого мира. Но лишь только мы начинаем противопоставлять одно направление другому — философия испаряется, и начинается нечто иное — идеологическая борьба. В результате — читатель сразу же предупрежден: его вниманию предлагается заведомо немарксистский подход к этике, пытающийся монополизировать сферу нравственности, оторвать ее от человеческой практики и противопоставить философской универсальности. Такого рода келейность — обычный прием буржуазных идеологов, выдающих взгляды буржуазии (или отдельных ее слоев) за общечеловеческие ценности и не заинтересованных в сопоставлении с чем-то еще, что могло бы высветить классовую ограниченность подобных "ценностей", их преходящий характер. Конечно, нельзя судить о книге только по ее названию: ни один автор не застрахован от стилистических погрешностей. Однако сама возможность подобной фразеологии требует от читателя повышенной внимательности и критического отношения к прочитанному.
* * *
Чудеса начинаются уже во введении. На первой же странице Д. с гордостью заявляет, что его профессия (заметим: не призвание, а всего лишь источник дохода) — "философское просвещение людей". Вот и посмотрим, что это за сияние...
Если не списывать опять на хромоту стиля, звучит по меньшей мере странно, ибо философия не имеет ничего общего с абстрактным теоретизированием: философия всегда конкретна — ее, ведь, надо подсказать людям, как жить — и как сделать мир человечнее. Пока оставим в стороне сомнительное положение о том, что интерес к философии в 1970-х и 1980-х как-то вырос по сравнению с предшествующими годами. Не похоже. Было бы разумнее говорить лишь о смещении акцентов, о новой проблематике — в конце концов, о популярности и моде. Но это — долгий разговор. Далее Д. провозглашает: "Интерес к философии за пределами профессионально-теоретической области — это симптом нравственных исканий народа..." Можно подумать, что нравственность существует сама по себе, безотносительно к деятельности людей и их воззрениям. Опять же, почему философия должна сводиться к нравственности? Наконец, народ — не теоретическая абстракция; каждый народ, и каждый общественный слой, в каждую историческую эпоху, ищет в философии что-то свое. И то, что именно он ищет, с какой-то стороны очень даже характеризует и его, и соответствующую эпоху...
Вот тут с Д. можно согласиться — поскольку философия, по сути, и есть поиск смысла жизни. И не только сегодня — а всегда и везде. Другое дело, что разные люди по-разному представляют себе, что есть жизнь — и ищут в ней разного смысла...
Приехали. Сначала говорим о философии как таковой. Потом, ни с того ни с сего, философия вообще — подменяется ловко вынутой из рукава "нравственной философией", и ничего не подозревающим массам предписывается считать мудростью именно ее. Но самое забавное, что эта никому неведомая философии, оказывается, стремится оправдывать добро! Ладно, классовый характер абстрактного противопоставления "добра" и "зла" — отложим до особого рассмотрения. Но, пардон, в чем добро виновато, и почему его надо оправдывать? Традиционно, добрые дела не нуждаются в оправдании, это, по большому счету, одно из определений добра. Чуть только пошли оправдания — значит, где-то не все путем... Но там, где начинается "нравственная философия", — здравому смыслу лучше помолчать.
* * * На с. 5 мы узнаем, что существует некое "знание о жизни, взятой в ее нравственном измерении". Оказывается, это "жизнь, постигнутая сквозь призму абсолютного различения добра и зла". Когда марксизм говорит о классовом и конкретно-историческом характере этических категорий — такой поворот Д. никак не устраивает. Для него идеи добра и зла — существуют сами по себе, безотносительно к чему бы то ни было, как пустые абстракции, как априорные формы, через которые мы, якобы, постигаем жизнь. Другими словами, в основу "нравственной философии" намеренно положен философский идеализм. С другой стороны, абсолютность различения чего бы то ни было (в частности, добра и зла) исключает развитие, взаимоотражение и взаимопереходы одного в другое. Различие не возникает, не движется — оно предписано человеку внешним, потусторонним, сверхъестественным образом (даже если называть это "материей", или "природой"). Такую позицию в марксизме называют метафизикой; прямолинейно и незамысловато, она выражает идеи вечности разделения общества на антагонистические классы, на богатых и бедных, на господ и рабов.
Остается обратиться к истории философии и посмотреть, кто и когда проповедовал подобные взгляды. Оказывается, что корни "нравственной философии" в европейской культуре восходят (как и во многих других случаях) к древним грекам — к стоикам и Сократу (которого мы преимущественно видим глазами Платона — как художественный образ, а не историческую личность Но не можем мы из никак не увязанных друг с другом кусочков механически слепить целое! — одни франкенштейны получаются. Оно и понятно: нельзя познать жизнь, имея дело с одними лишь трупами. Остается чисто по-детски: расплакаться, топнуть ножкой и отказаться вообще что-либо объяснять — дескать, так оно все устроено, потому что мы по-другому не умеем. И никогда не сумеем — если будем дуться на природу и самих себя. Влияние расхожего кантианства (в его наиболее вульгарных, "попсовых" вариантах) сказывается на всех последующих строителях "нравственной философии" с их проповедью "абсолютной" (то есть, по сути, богом данной, предписанной сверху) морали. Классовое общество противопоставляет одних людей другим — и это противостояние тупо переносится в этику: буржуй — по определению хороший (потому что у него много добра), а раб — по природе плохой (потому что его добро отняли буржуи, и он на них за это все время злой). Даже хорошие (покорные) рабы — это подлый люд, и от них благородному сословию всегда приходится ожидать какой-нибудь пакости...
На русской почве, в условиях варварского подавления всякой самодеятельности масс, европейские прототипы приобретают особый мистический оттенок, акценты смещаются из практической сферы в область чисто личного, субъективного, а поведение в соответствии с навязанным сверху абстрактным идеалом носит характер юродства, самоуничижения, покаяния, подвижничества. У любого европейского философа традиционно присутствует элемент прагматизма, который хотя бы отчасти уравновешивает идеалистические представления, не дает им безраздельно подмять под себя человеческий разум.
* * * Как и ожидалось, буквально в следующем абзаце, нам сообщают, кто будет нашим проводником "по кругам ада, являемого нам в русле новейших тенденций современной философии":
Вот так, без обиняков — зачем нам марксизм? Высшая ступень этической мысли — Достоевский и Толстой
* * * В соответствии с принципом "разделяй и властвуй", Д. ссылает остатки (или останки?) марксизма в область логики и методологии — а в этике, дескать, мы сами разберемся:
Но кончается все равно за упокой:
То есть, на первом месте в идеологии — "моральный аспект", а потому Достоевский главнее Маркса, а Толстой может указывать Ленину. Молодежи не нужно заморачиваться анализом экономических проблем и поисками путей реального изменения общественного уклада — "нравственное чувство и моральное сознание, если они развиты в правильном направлении, помогут ей избежать многих ошибок на жизненном пути". А на резонный вопрос: что, собственно, понимается под развитием этого самого нравственного чувства "в правильном направлении"? — Д. тут же дает совершенно недвусмысленный ответ, что это не какая-нибудь там философия вообще, а именно "наша нравственная философия, уходящая корнями своими в народную традицию и получившая свое крайне плодотворное развитие уже в русле классической русской литературы". То есть, сначала мы марксизму противопоставляем некую абстрактную этику, не имеющую отношения к проблемам "естествознания, гуманитарных наук и практической деятельности", — потом отдаем ее на откуп придуманной по случаю "нравственной философии", — а затем из этой последней политическим решением вырезаем то, что (якобы) подходит Достоевскому и Толстому, в противовес любым "не нашим" влияниям. Припутывание "народной традиции" — для совсем наивных, кто не догадывается, что любая рефлексия (у всех народов и во все времена) вырастает из повседневного быта, — а традиция как раз и есть ее первобытная форма, которую деятели искусства, ученые и философы обязаны не только принять к сведению, но и творчески перерабатывать, преодолевать, тем самым способствуя искоренению изживших себя традиций и становлению новых. "Наше" от "не нашего" тут ни капельки не отличается.
* * * Если не ограничивать литературу Достоевским и Толстым, можно согласиться с Д., что именно литература "изначально была и нашей философией", и что в ней "концентрировался нравственный опыт народа". Но это же справедливо и для любой "не нашей" философии, поскольку на ранних этапах развития рефлексии собственно философское мышление еще не сформировалось, и неизбежно приходится выражать всеобщее в синкретичности художественного образа. Точно так же, восприятие философии требует определенного уровня духовного развития — и массовый читатель получает первое смутное представление о философской проблематике из произведений искусства. Но искусство никак не может (и не должно) заменять философию; у них совершенно разные методы и задачи.
* * * Очередная иллюстрация "философского" метода Д., образчик грубо метафизической пошлости — в блескучей обертке:
Но точно так же философия вырастает из всякого другого опыта — и прежде всего, из опыта практической деятельности, преобразования мира. А этот опыт различен в разные эпохи, и сама категория "народ" может говорить об очень разных вещах. Начиная философию с морали, Д. отметает другие возможности — и вместо единства различных сторон и направлений рефлексии провозглашает диктатуру начальственного мнения (которое, как обычно, выдают за глас народа). С другой стороны, мораль не дана человеку изначально, она исторически развивается — и один моральный опыт сменяется другим, иногда прямо противоположным. Морализаторство входит в моду на определенных стадиях развития общества — и следовало бы не возводить его в ранг единственного источника философии, а понять, когда и почему этическая проблематика (которую вовсе не обязательно сводить к морали) начинает звучать громче других. Тут ни Достоевский, ни Толстой не подспорье: действительную связь форм человеческого самосознания с уровнем общественно-экономического развития может заметить только исторический материализм.
* * * Сваливание в одну кучу художественной литературы и религии у Д. начинается с уподобления корана гомеровскому эпосу — а в России, дескать, ту же культурообразующую роль играют Достоевский с Толстым. По-видимому, библия не упомянута в том же ряду лишь потому, что Лев Толстой (в противоположность Достоевскому) ее не жаловал и всячески шпынял; а Толстой для Д. — высший авторитет. Можно подумать, что до Толстого не было у нас ни литературы, ни философии, а возник Толстой чисто метафизически, из ничего. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев — так, мелкие эпигоны; а всякие там ломоносовы, салтыковы-щедрины, тютчевы и некрасовы — полная безнравственность!
* * * Неограниченная самоуверенность перерастает в самоуверенную ограниченность:
Пардон, а почему, собственно, россиянам западло опираться на опыт других народов? Содержательной литературы за бугром предостаточно. Начиная с того же Гомера, или Конфуция, или Фирдоуси — не говоря уже о Шекспире, Мольере, Гете... Но даже внутри России русская классика — далеко не исчерпывает все богатство ее многонациональной литературы. Опять же, если на то пошло, у нас на полках не только Достоевский и Толстой; там, между прочим, и Радищев, и Герцен, и Чернышевский, и Горький, и Маяковский... Плюс тысячи других — кого Д. легким движением смахивает в мусорную корзину.
* * * Гипертрофирование "нравственно ориентированной перспек-тивы" философии — лишь одна из разновидностей того самого "формалистического выхолащивания", коему эта "перспектива" призвана "по мере сил противостоять". Надо бы не противопоставлять один аспект философии другому, а искать универсального единства всех ее сторон; не мерить один национализм другими — а показать, как ограниченность каждой нации преодолевается в процессе становления разумного (единого) человечества.
* * * Как это обыкновенно происходит, российский ура-патриотизм вырастает на почве обостренного чувства собственной ущербности, в глупо-бесплодных попытках кого-то догнать и перегнать, любой ценой:
Дескать, не ценят нас на Западе — а мы ой как хотим встать "на один уровень", и вообразить себе, что кого-то кроме нас интересуют загадки "русской души". Но "мировой философской мысли" до нас дела нет — у нее свои интересы, а русских если и привлекают — то лишь в качестве примера вековой отсталости и косности сознания. Немудрено, коли судить по образчикам вроде писаний г-на Д. Стараниями буржуазных блюстителей нравственности, многочисленные образцы подлинной культурности народов СССР были практически неизвестны за его границами; впрочем, на излете социализма, в разгар закулисной дележки собственности, и внутри страны о них мало кто знал... Только после распада националисты всех мастей начали обожествлять имена, делать их символами этнической замкнутости (а значит, бездуховности) — чем в отношении русских занимается г-н Д.
* * * Если какие-то философские течения (не важно, в России или за рубежом) пытаются пристроить Достоевского в отцы-основатели — стало быть, имеется у Достоевского нечто такое, что позволяет к нему относиться именно так. Разумеется, понять Достоевского невозможно, не изучив той культурной среды, из которой вырастает его юродству¬ющее морализаторство. Знание российских реалий необходимо и для того, чтобы заметить, что Достоевский как литературное явление — гораздо шире банальной достоевщины. Но то же самое можно сказать и о любом другом крупном писателе, в любой другой стране.
Когда писатель замыкается в этническом самосознании, когда в его творчестве говорит лишь ущемленное чувство национального досто¬инства — он не станет частью мировой культуры. Это касается не только русских: например, идея американской исключительности в творениях некоторых (безусловно выдающихся) писателей США не позволяет зарубежному читателю проникнуться их видением мира, разделить их тревоги и мечты. Кому-то надо самоутвердиться — а мы при чем? Точно так же, не всем удается по достоинству оценить явления африканской, индийской или китайской культуры. Культурные явления перерастают времена и границы только тогда, когда в них есть элемент всеобщности, универсальности.
* * * Д. высасывает из западной моды на ужастики некую "метафизику ужаса" — которую буржуазная идеология насаждает и оправдывает якобы верным изображением рыночной действительности (иногда с левацким уклоном). Ни одного возражения, правда, предъявить не удается. Тогда Д. пытается один субъективизм перешибить другим:
Именно не сплетается! Действительность не может не восприниматься иначе как в бесконечном разнообразии ее единичных проявлений — однако она не сводится к ним, в основе всегда некоторая сущность. Человеческие поступки, как правило, имеют мало отношения к разуму, они по большей части лежат вообще за гранью сознания. За ложью мотивировок — надо уметь видеть реальность мотивов. Если присмотреться к западной трэш-культуре, легко заметить, что нагромождение ужасов сверх меры приводит к девальвации ужаса — поголовному равнодушию к действительным (а не лубочно-киношным) мерзостям жизни: экранная грязь и комиксы — это не только противно, но местами даже весело, и очень даже годится на роль обезболивающего, снимает тревоги за судьбы человечества. На что все и рассчитано. Раскольников с топором и отцеубийство — тут в самую струю.
* * * Метафизический лозунг "неотчуждаемости моральной рефлексии от человеческого сознания" подгоняет всех под спущенные сверху нормы добра и зла — и Д. возмущается по поводу "хитросплетения обесчестившей себя мысли Родиона Расколь¬никова" [14]. Но мысль не может обесчестить себя. Даже если она не умеет выпутаться из ошибок и заблуждений. Бесчестен — отказ от мысли, попытки спрятаться (следуя указаниям Д.) за абстрактный принцип, за "абсолютную" мораль. Какое свободомыслие? Если вы не следуете нормам нашей морали — то ваша мораль преступна. По определению. И мы с чистой бессовестностью объявим вас параноиками — с соответствующими оргвыводами:
Но что есть преступление? Чем его оправдание отличается от его порицания и наказания? Почему одно и то же деяние одни считают преступлением, а другие — подвигом? Почему одно и то же по-разному оценивается в разные эпохи? Стремление Д. всех посадить в одну клетку и запретить любые альтернативы (даже в мысли) — вот "параноидальная настойчивость". Плюс мания величия:
Философия ≠ метафизика. Философию не "изобретают" — ее надо обрести, прийти к ней через осмысление реальности прошлого, настоящего и будущего — если угодно, выстрадать. Самозваные "профессиональные философы" редко занимаются философией; чаще всего, они, наоборот, пытаются увести массы от мудрости, отвлечь внимание младенца-человечества очередной яркой побрякушкой. Для этого их и держат их классовые заказчики, и готовы хорошо платить за оболванивание масс, за "массовую культуру". "Общезначимость" — чисто буржуазный термин, уравнивающий рабов и господ в рамках якобы единого для всех закона; общезначимые формы в искусстве — смерть искусства, его перерастание (в лучшем случае) в ремесло (если не в политтехнологию). Искусство не для того, чтобы популяризировать (или вульгаризировать) откровения философов; наоборот, философия осмысливает достижения науки и искусства, заимствуя формы и того, и другого. Проникновение философских идей в массовую культуру возможно лишь поскольку сами эти идеи отражают нечто уже вызревшее в недрах общественного сознания; это вовсе не предписание свыше, а возвращение массам того, что философия у них же и почерпнула (подобно тому, как инженер усовершенствует типовые орудия труда). Метод буржуазной пропаганды — опошление и вырождение великих идей, подменой одних идей другими, в чем-то противоположными. Для этого и муссируют миф о всемогуществе масс-медиа — с которым Д. походя соглашается: оказывается, нет у человека никаких средств для выработки убеждений, кроме лапши на ушах; конечно! — мыслить-то ему г-н Д. строго-настрого запретил.
* * * То, что философствование оказывает влияние на поступки людей, не нуждается в особых доказательствах. Собственно, философия и есть осмысленный выбор человека — в отличие от слепого подчинения жизненной стихии. Если же философствование уходит от философии в область психотехники и промывания мозгов — его практическая направленность еще более очевидна. Однако нельзя представлять дело так, будто бы возможно "убедить" массы принять кем-то придуманную "метафизику", абстрактные правила абстрактной игры. Допустимость того или иного поступка обусловлена уровнем общественного развития в целом, который связан прежде всего со способом производства, с характером производственных отношений. Философское "оправдание" приходит потом, когда действие (хотя бы в принципе) уже позади.
* * * Философию делают люди — но не "изобретают" ее, и не изрекают как оракул, божий глас, откровение и непреложный закон, — философ лишь выражает одну из граней самосознания народа. Абсолютно голословно, Д. заявляет, что Толстой и Достоевский исходили из
Глупость несусветная! Если мы открыто высказали то, что назрело в обществе, что пропитывает его дух насквозь, — нас за это надо судить? Нашими устами "люд" открывает себе себя — и если после этого он собирается кого-то осуждать — это самобичевание, юродство, покаяние. Лубок, карикатура на совесть, имитация духовного пробуждения. Иван Карамазов, видите ли,
Мысль не бывает виновной! Слово недаром начинается с "мы" — мыслят люди вместе, лишь поручая время от времени высказаться одному. Не будь теорий Ивана Карамазова — нашлись бы другие; даже если вообще никакой софистики — дела обойдутся без нее, и "моральная бухгалтерия" ни чуточку не пострадает.
* * *
Марксизм учит нас, что философия только тогда истинна, когда она становится способом жизни, определяет направление мысли и действия. Говоря словами Д., важно, "платил ли человек за свое мышление звонкой монетой собственной жизни, или оно было для него лишь модным костюмом, который снимается и вешается в шкаф после очередного рандеву" [17]. Однако сам Д. понимает это с точностью до наоборот. Отречение от своих убеждений и публичное покаяние — для него важнее решительного поступка, утверждения мысли делом. То есть можно философствовать то так, то эдак, — и это нравственно; а "сбежать в самоубийство", осознав полный крах своего представления о нравственности и свою неуместность в этом мире — это, видите ли, "смердяковщина". Господам важно, чтобы рабы не только не бунтовали — но и даже помышлять не могли; Д. услужливо поддакивает: вот вам "перспектива публичного покаяния", якобы предложенная Достоевским "в качестве единственного способа самопреодоления преступной мысли" [16]. То есть, мыслить — это преступно; мыслить за вас будут кому положено. Показательно выпороть за прегрешения — это по-нашему! Галилея заставили публично отречься от убеждений. Кого-то публично сожгли, или экономически обесчестили, или морально четвертовали. К этому ведет нас лакейская философия г-на Д.
* * * Смешно, когда Д. трактует эпидемию сифилиса как "родовую вину" отважного путешественника [18]. Это, оказывается, всего лишь "опасная случайность", обратная сторона "путешествия за откры¬тиями"... В исконно русской анекдотической литературе есть такой персонаж — поручик Ржевский. А писанина Д. — философский сифилис.
* * * Вот полный букет метафизических заблуждений как логического, так и этического свойства:
Во-первых, никакой факт не может быть "самоочевиден" — факт всегда предполагает предварительную мыслительную, душевную и вполне практическую работу многих людей по соотнесению явлений с существенными (то есть, экономически и культурно обусловленными) способами органи¬зации человеческой деятельности. Латинское factum, собственно, и означает: "сделанное". Во-вторых, человек принципиально бесконечен — поскольку он человек, носитель разума. Задача разума как раз и состоит в том, чтобы универсальным образом соединить мир в одно целое; именно в человеке разумном возникает связь между явлениями, сколь угодно далекими друг от друга, — и без человека этой связи быть не могло. Человек не просто "живое телесное существо" — он делает весь мир своим орудием, своим органом, полем своей деятельности. Наконец, "смертен" — не значит: "конечен". Бесконечное тоже способно рождаться и умирать. А смерть — далеко не всегда конец.
* * * И репейник в чем-то красив. Даже у Д. бывают по-настоящему интересные наблюдения:
Однако ни одно из философских течений XIX–XX века, против которых так ополчается Д., не превращает смерть в "единственное абсолютное божество", в "единственно достоверный Абсолют". Речь в них идет в точности о противоположном — об осознании ценности жизни каждого отдельного человека: ее потеря становится невосполнимой утратой для всего человечества. А значит, человек не обязан подлаживаться под какие бы то ни было "общезначимые идеалы и ценности" — наоборот, наши идеалы следует привести в соответствие с целями и потребностями человека (очеловечить, сделать гуманнее). Объективную необходимость установления такого соответствия в истории человечества утверждает исторический материализм. Только кто же об этом знал? Вот и пришлось изобретать велосипед. Колеса и педали приладить кое-как сумели — но в буржуазной барахолке так и нашлось руля.
* * * Без особых оснований, Д. приписывает западным философиям признание смерти как единственной "абсолютной власти". Чтобы такое стало возможно, требуется "не просто утрата веры в бога, но полная утрата веры в какие бы то ни было общезначимые идеалы и ценности вообще, в какие бы то ни было абсолюты". Почему идеалы и ценности должны обязательно быть абсолютами — загадка, необъяснимая прихоть "нравственной философии". Буржуазная философия никогда не отрицала этической общезначимости — более того, она всячески продвигала идею абстрактных и абсолютных "общечеловеческих" ценностей, подразумевая под ними ценности буржуазные. За это западным философам и платят. Но допустим, что кто-то действительно впадает в столь красочно расписанные Д. прегрешения и болеет буржуазным индивидуализмом в особо острой форме...
Другими словами, то, что Д. описывает как "эгоистическое самоутвер¬ждение" и "самообожествление" означает 1) отрицание всеобщности человека, отказ от человечности в самом себе, — и, как следствие, 2) признание собственной конечности, сведение себя к индивиду. У такого изуродованного человека, отчужденного от самого себя, действительно, нет никаких перспектив, кроме смерти. Чисто метафорически, можно провести параллель с известным из физики явлением полного внутреннего отражения: 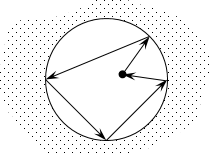 Человек смотрит изнутри себя, но его взгляд наталкивается на его же собственную границу — и остается внутри, не в состоянии разглядеть что-либо за пределами духовной ограниченности. Социальная слепота, невозможность опереться на объективные знания, — отсюда страх темноты, клаустрофобия, фрустрация... Человеку разумному незачем бояться смерти — разум вообще не знает страха. Факт конечности индивида, неизбежность растворения единичного биологического тела в конечности других тел, не вызывает у человека ни "смертельной тоски", ни "невыразимого ужаса". Помимо животного метаболизма, у человека есть масса других занятий, далеких от физиологии. Те, кто немного знаком с марксизмом, знают, что, кроме биологического тела, у человека имеется еще и "неорганическое тело", и что именно оно в основном определяет его общественную суть. Со смертью индивида — не умирает человек, он продолжает оказывать влияние на других людей, и через них — на весь мир. И тут вполне можно согласиться с Д.:
Вот вполне реалистичная картина капиталистического всеобщего отчуждения, подавляющего собственно человеческое в человеке, низводящее его до рабочей скотины. При этом, совершенно логично, Д. ссылается не на Достоевского или Толстого — а на Карла Маркса. Но основополагающие принципы марксизма остаются выше понимания г-на Д., и он спешит причесать жизнь под голую схему:
У Маркса дело обстоит с точностью до наоборот: именно превращение одного из общественных отношений (капитала) в абсолют приводит к вырождению человека, обесценивает его жизнь. Только отказ от каких бы то ни было абсолютов, обращение к реальному развитию экономики и культуры, снимающему (в гегелевском смысле) старые формы бытия в новых позволяет людям разумно относиться к самим себе — и в частности, сообща выработать новую, сознательную нравственность, свободную от слепого следования кем-то раз и навсегда установленным принципам. Свободный (то есть разумный) человек умеет увидеть объективную необходимость того или иного поступка, вытекающую не из каких-то "абсолютов", а из анализа конкретной общественно-исторической обстановки. То, что нравственно в одних условиях, — становится безнравственным в других. Изменение культурных условий требует пересмотра этических принципов.
* * * Формальное противопоставление разных сторон одного целого неизбежно превращается в столь же формальное противоречие. Вот пример скрытой логической непоследовательности в рассуж¬дениях Д. относительно человека, утратившего "абсолюты":
Но уже сама возможность мыслить собственную гибель есть выход за пределы ограниченного в пространстве и времени индивида. Тот, кто действительно смирился со своей конечностью и отказался от чело¬веческого в себе, — воспримет смерть, скорее, как избавление, как долгожданный конец тягот земного бытия. Если за смертью пустота — страха нет, есть надежда. Недаром все на свете религии старательно внушают людям мысль о существовании загробного мира — им нужно любой ценой пробудить страх, чтобы господствующие классы могли держать народ в кабале. Предъявление массам потусторонних "абсолютов" как бы говорит обывателю: не надейтесь сбежать, за смертью мы вас все равно найдем и накажем. Пессимистические течения в западной философии возникают не как выражение мистического ("экзистенциального") страха — а как способ его преодоления. Это стихийный протест против обесценивания личности в капиталистическом обществе; отсюда и "нигилистическое" клеймо, которое наве¬шивает на таких философов господствующая идеология — и которое некрити¬чески заимствует Д. Бывает, что философы начинают бравировать своим "нигилизмом", — и тогда их философия вырождается в формальный трюк, становится частью той самой офици¬альной культуры, против которой они пытались восстать. "Ужас и тоска" в буржуазной философии появляются не потому, что человек (трактуемый в ограниченно-индивидуалистическом плане) смертен — это реакция на безысходность жизни. Страшна не пустота, а то, что в капиталистической действительности человеку не остается ничего другого. Ужасна не смерть — а то, что жил впустую.
* * * Буржуазный индивидуализм действительно состоит в родстве с солипсизмом [25]. Человек, замкнутый на себя, лишенный возмож-ности жить и действовать по-человечески, свободно и творчески, неизбежно теряет интерес ко всему, что выходит за рамки его повседневности. Отсюда скептическое отношение к любой объектив¬ности: может быть, там, снаружи, что-то и есть — но мне какое дело? В частности, нет смысла говорить о нравственности и морали. Такой человек видит бессмысленность жизни — но он не способен даже на самоубийство, которое для него столь же бессмысленно, как и все остальное. Д. не прав, когда пишет, что
В том-то все и дело, что даже смерть дана конечному человеку лишь как субъективное переживание — каким бы глубоким оно ни было, ни о какой "адекватности" речи быть не может, поскольку это пере¬живание просто не с чем соотнести. Смерть для такого индивида — полное уничтожение мира его личных представлений — а никакого другого мира он больше не знает (не хочет знать).
* * * Как только Д. начинает говорить нечто (хотя бы по видимости) осмысленное — значит, где-то рядом бродит тень Карла Маркса... Возникновение роли идеологического "аутсайдера" Д. совершенно правильно связывает с развитием капитализма, и усматривает элементы (изобретенной нынешними философами) "враждебной культуры" уже в XVI веке (то есть, как раз тогда, когда Европа ясно обозначает решительный поворот к буржуазности). И, конечно же, "типичность определенной истори¬ческой фигуры совсем не тождественна ее массовости и вовсе не гарантирует ее устойчивого и непреходящего характера" [27]. Если быть последовательным, ряд "де Сад, Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше" [29] следовало бы начать именно с XVI века, с Франсуа Рабле. Однако Д. не понимает, хотя и (невпопад) цитирует Маркса, что массовость какого-либо художественного, научного или философского направления — не дань моде: она выражает объективно достигнутый уровень развития общественных отношений (и прежде всего — производственных). А следовательно, глупо считать "враждебную культуру" всецело отрицательным явле¬нием, способным только "паразитировать на разрушении того, что было накоплено долгим и трудным опытом человеческого развития". Важно увидеть в кажущемся "нигилизме" то, до чего ранее фило¬софия дойти не могла, что стало насущным именно теперь, в эпоху расцвета капитализма, с доведением капиталистического способа производства до логического завершения. И эта совершенно новая для философии мысль — уникальность и бесконечная ценность каждой человеческой личности, невозможность вписать ее в рамки абстракт¬ных идей и моральных "абсолютов".
* * * Д. ополчается на "аутсайдера" за то, что абсолюты буржуазной культуры "не имеют для него абсолютной ценности". Но, ведь, в этом и суть — и важнейший вклад аутсайдерства в развитие человеческой духовности: любой ценой не уступать давлению верхов — даже ценой собственной жизни. Для Д. это покушение на святое — на веру: эти преступные элементы против господствующей поповщины, они хотят "разложить ее изнутри, заразив трупным ядом своего всеразъедающего неверия". А в начальство надо верить. Подписываться под каждым словом. Благоговеть и восхищаться. Такова традиция. А эти...
Берите пример с Д.: он ничего нового предложить не в силах — так он же и не против традиций, а даже наоборот, всех загоняет в старое стойло!
* * *
Вот так простая мысль о том, что человеку (пока он остается челове¬ком) свойственно смотреть вперед, обрастает идеалистическим хламом. Почему, собственно, "высокое предназначение" — это вопрос веры? Что, разума уже нет? И с какой стати это самое предназначение — обязательно предназначение "человеческого рода"? Если так — путь к личностному совершенствованию закрыт, человек обречен оставаться огрызком родового существа. Тогда сама постановка вопроса в форме "Зачем я живу?" невозможна — положено говорить: "мы живем"...
Это не просто перл, это перловая каша. Зачем нормальному человеку стремиться к абстрактным целям, не связанным с его "индивидуальной жизнью"? Тогда чьи это цели? Почему смысл жизни обязательно должен быть за ее пределами? Что значит "высшая цель"? Выше всякой разумности? Выше любой осмысленности? И почему смысл жизни следует обязательно делать очередным "абсолютом"? Это дежурное словечко Д. сует куда ни попадя. Ну а что такое абсолютный идеал — вообще непонятно. Идеалы по сути своей всегда конкретны: они выражают нынешнее состояние дел, задают направление ближайшего развития. Насчет конечной цели — это не для человека, это к скотам. Получается, конец всему — и есть та самая "высшая цель". То есть, дойти — и рухнуть. Умереть. Так Д. на деле проповедует то, против чего внешне возражает: смысл жизни — в смерти. Ну и для коллекции — неоправданное отождествление смысла и цели. Это совершенно разные уровни. Цель относится к действию — и в этом смысле связана с конечностью. Смысл — показывает место действия в деятельности, ее отношение к бесконечности.
* * * Вопрос "почему я живу?" вовсе не отменяет вопроса "зачем?"; всякий путь — это не только "куда?", но и "откуда?". Что плохого в мыслях о причине разумного бытия, о его необходимости? Связывать это с деградацией личности и нежеланием стремиться "к высшим целям человеческого существования" — полная нелепость. Для разумного человека как раз характерно сочетание "зачем" и "почему", их взаимная дополнительность. Произвольно выдергивать одно из двух, формально противопоставлять одно другому, — метафизическая бессмыслица. На самом деле иерархия "экзистенциальных" вопросов намного сложнее. Она предполагает, прежде всего, различение уровней субъ¬екта, при котором "я" неизбежно соотносится с "мы", а противоположность "мы" и "они" снимается в идее субъекта как такового (больше, чем человечество, разум в масштабе Вселенной). Далее, человеческая деятельность — это не житейская рутина, а сознательное преобразование мира в соответствии с потребностями человека. И уж никак не монотонное повторение, переливание из пустого в порожнее: деятельность характеризуется определенной направленностью, из чего-то исходит и куда-то стремится, связывает прошлое и будущее — в этом ее бесконечность. Поэтому источник деятельности — вовсе не то же самое, что ее предназначение; тем не менее, в психологическом плане, и то, и другое может стать мотивом. Соответственно, возможны (и неизбежны) вопросы о начале и конце — хотя бы и в качестве разных проявлений одного и того же. Даже если ограничиться только двумя измерениями, и пренебречь рефлективностью категорий, вопрос о смысле жизни уже становится глубже и конкретнее, обнаруживая разные грани:
В каких-то условиях на первый план выходит одно, в других — другое. Но ни один взгляд не отменяет свою противоположность, а наоборот — предполагает и осуществляется через нее. Но это не для метафизиков.
Конечно же, тут нет никаких "абсолютов" — поскольку любой из этих вопросов предполагает конкретного представителя конкретной обще¬ственной группы в конкретную историческую эпоху. И те ответы, которые кто-то найдет для себя, вовсе не обязательно пригодятся кому-то еще. Интересуясь духовными исканиями других, мы вовсе не стремимся приспособить чью-то линию жизни к себе — мы лишь учимся самостоятельно искать свое, неповторимое. Поэтому нельзя говорить, что один был прав, а другой заблуждался, — каждый из них мыслил по-своему, в своих обстоятельствах. Ошибки и путаница могут служить опорой новых находок в той же мере, как и самая возвышенная мудрость; в каждой находке — единство истины и заблуждения; некритически заимствовать чужие идеи — это не комильфо.
* * * Никакой "двусмысленности" [31] в вопросе "почему?" нет (если, конечно, не предполагать ответ: по кочану). Есть внутренняя сложность, иерархичность — как и в любом серьезном деле. И развертывать эту иерархию можно то так, то эдак. Например, в деятельности субъект превращает внешний мир (объект) в элемент культуры (продукт). Поэтому любой мировоззренческий вопрос пред¬полагает объективный, субъектный и продуктивный аспекты, что в рефлексии (в частности, философской) превращается в онтологию, логику и этику. Поскольку же в деятельности человек воспроизводит и собственную субъектность, вопрос "зачем?" в равной мере относится и к субъекту, и ко всему, что ему противостоит как объект.
* * * Вот замечательный образчик абстрактного философствования в жанре глубокомысленной чепухи:
Откуда-то Д. вытащил "определение", противопоставляющее "я" и "других" — хотя одно без другого просто невозможно, и одно никак не исключает другого, а даже и предполагает его. Из одной нелепости вытекает другая — глупый спор о том, кому, черт побери, все-таки отвечать на поставленный вопрос. Но любой вопрос, очевидно, требует, как минимум, того, кто спрашивает, и того, кто отвечает. Даже если это окажется (совершенно несущественным образом) одно и то же лицо — человек в одной роли не совпадает с самим собой в другом амплуа. Однако вопросы ставят не изолированные от жизни одиночки — сколько-нибудь осмысленные (не "риторические") вопросы выражают общественную необходимость, и разные люди будут спрашивать по-разному. Точно так же, ответы всегда приходят "извне" — хотя бы потому, что единственным их источником является практическая деятельность людей, а следовательно — и общение. Но при чем тут "полная самоутрата"? Почему отношения человека и общества — это обяза¬тельно "навязывание" личности чего-то извне? Если личность выражает интересы определенной социальной группы, ее поведение никоим образом не "навязывается" ей этой группой, оно может быть вполне сознательным и творческим. Разумеется, в классовом обществе, где одна его часть все время навязывает что-то другой, — приходится заниматься не высокими материями, а работать на чужого дядю. При капитализме это отчуждение становится универсальным, охватывает все слои общества и все аспекты деятельности. Но глупо разглагольствовать о порочности этого самого, отчужденного от самого себя человека — надо говорить о порочности общественной системы, доводящей людей до такого (нечеловеческого) состояния, и надо искать пути построения нового общества, в котором противопоставление личности и общества стало бы невозможным. Только в таком обществе жизнь каждого станет по-настоящему осмысленной.
* * * Сто с лишним лет назад Джон Стюарт Милль отмечал, что всякое суждение есть сопоставление как минимум двух вещей — указание на единичную вещь ни о чем само по себе не говорит. Поэтому нет большого открытия в том, что в вопросе о смысле жизни мы имеем дело с двумя элементами — "я" и "живу". Это (вопреки уверениям г-на Д.) одинаково справедливо для любой конкретной формы этого вопроса. "Я живу" — довольно сильное утверждение, и некоторые философы склонны его оспаривать, а другие отмечают необходимость серьезного уточнения того, что есть "я" — и что есть "жизнь". И только тогда возможно задавать по поводу этого высказывания какие-либо вопросы. В противном случае — чистое словоблудие насчет моей жизни, явля¬ющейся как бы уже и не моей, поскольку из нее "отмыслено" мое сознание — "а разве жизнь без моего сознания это моя жизнь?" Если полагать, что человеческая жизнь (в отличие от животной) есть жизнь прежде всего разумная (сознательная деятельность по преобразованию мира), "отмыслить" от нее сознание никак не получится. А учитывая, что человек как разумное существо в своей сущности есть совокупность всех общественных отношений (Маркс), сознание не так просто разделить на "мое" и "не мое"; в силу универсальности рефлексии у каждого человека (как разумного существа) его индивидуальное сознание участвует в жизни человечества в целом, а общественное сознание накладывает отпечаток на сколь угодно личные дела. В том-то и штука, что для разума всякая жизнь — своя, он обязан вобрать в себя весь мир, и не только живой. В этом и состоит разумность.
* * *
Вот так. Сколько же можно в одном абзаце нагородить ерунды! Когда и кто поместил проблему смысла жизни в "плоскость человеческой свободы и ответственности" — неизвестно. Не говоря уже о том, что вопрос о смысле жизни охватывает не только этическую сферу, — сама эта сфера отнюдь не такая плоская, как видится Д. Далее, если речь идет не о "свободе и ответственности" — это вовсе не значит, что все сразу становится нечеловеческим. Разве людям, кроме "нравственной фило¬софии", уже и поговорить не о чем? Человек только тогда становится человеком, когда он умеет к каждой пылинке отнестись по-человечески. Поэтому ничего "нечеловеческого" для человека в мире нет — все имеет к человеку первейшее отношение, все подлежит пересмотру и перестройке на человеческих началах, включению в человеческую культуру. Но даже если говорить о мире самом по себе, в онто¬логическом плане, безотносительно к человеку, — почему это должно сводиться только к необходимости, и почему любая необходимость обязательно фатальна? Необходимость (равно как и причинность, и случайность, и т. д.) принадлежит к сфере конечного. К бесконечному такие категории "местного значения" просто никак не прилагаются. А значит, поскольку (то есть, в той мере, в которой) человек разумен (и, следовательно, бесконечен) — ни о какой фатальности речи быть не может. Хотя человеку приходится регулярно поступать в соответствии с объективной необходимостью (ну не может он чисто физически находиться вне этого, единственного мира!) — сие никоим образом не снимает с него ответственности. Если, например, один человек убивает другого, никакие доводы о том, что он был вынужден это сделать по совершенно не зависящим от него обстоятельствам, не отменяют самого факта убийства. Когда убийца знаком с совестью — от оправданий она чище не станет. Если по Д. — получается, что над человеком все время должен стоять кто-то с этической дубиной, а сам человек блюсти себя никак не в состоянии. Но истинно нравствен¬ным будет лишь тот, кто ведет себя нравственно даже в безнравственных обстоятельствах. Из каких соображений вопрос "зачем?" является "духоподъем-лющим", а вопрос "почему?" таковым не является — тайна, покрытая мраком. В человеческой деятельности вопрос "почему?" столь же относится к ее субъективному отражению, как и вопрос "зачем?" — и ни о каких природных факторах речи не идет. Например, если я объясняю, что вынужден работать не по призванию, потому что мне нужно кормить семью, — подобные "почему" просто переполнены этическими соображениями, хотя и ссылаются на чисто внешнюю необходимость. Наоборот, если я уморил голодом свою семью для того, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, — подобные "зачем" выводят меня за рамки человеческой нравственности. Следует отметить, что никакая объективная необходимость не может действовать на уровне человеческой деятельности иначе как становясь необходимостью субъективной (общественной и личной). Человек — не физическое тело, не животный организм. Это прежде всего совокупность общественных отношений. Говорить о том, что, например, порыв ветра способен сдуть человека с его общественных позиций, — нелепо и смешно (хотя чья-то реакция на порыв ветра может в определенных общественных условиях запросто задвинуть человека на социальное дно). Далее, если нечто в человеке "действует в обход всего того, что он мог бы признать в себе за достойное почтения и уважения" — это вовсе не означает, что этого в нем нет, что оно действует внешним образом, как природная необходимость. Значительная часть чело¬веческой мотивации скрыта от непосредственного наблюдения, и требуется немало изобретательности, чтобы вытащить на свет тайные мотивы, в которых человек просто так никогда себе не признается. В частности, на этом держится весь психоанализ (как бы мы к нему ни относились). Здесь особенно важно спросить: "почему?" — без ответа на этот вопрос просто не будет никаких "зачем?". Какие мотивы (и когда) являются "высшими", а какие наоборот — тоже бабушка надвое сказала. В любом случае, сначала надо осознать свою мотивацию — и тогда уже решать, как быть дальше. И так далее. В несколько строк Д. умудряется впихнуть тонны ни на чем не основанных заявлений, пренебрегая элементарными нормами публичного рассуждения. И потом с гордостью заявляет:
Вот уж действительно, с больной головы на здоровую! Попытка прикрыть собственную идеологическую нечистоплотность логической объективностью, которая, якобы, выше этики.
* * * Буржуазная пропаганда выработала немало приемов скрытого подсовывания человеку выгодных власти идей. Один из излюбленных трюков — подмена понятий, переименование. Если взять словесное выражение чего-нибудь гуманного и возвышенного, а потом потихоньку заменить значения ключевых слов не противоположные — то смысл утверждения окажется уже иным, не таким возвышенным и далеким от гуманности. Называя вещи своими именами, скормить такое широкой публике было бы затруднительно. Например, после (а местами и до) развала СССР под "духовностью" начали понимать то, что раньше называлось "бездуховностью" или "убожеством", — и привычная "социалистическая" фразеология приобрела совершенно реакционный оттенок. Точно так же, Д. пишет:
Вроде бы, звучит красиво. Если понимать под "высоким" и "низким", соответственно, разумное и неразумное, бесконечно универсальное и ограниченное. Тогда можно понять это как требование всегда следовать объективному призванию человека — пересозданию мира на разумных началах. Всякое отступление от своего призвания — уступка природной стихии, превращение в животное или нечто вообще неодушевленное. Но в контексте книги Д. под "высоким" подразумевается некий абстрактный моральный "абсолют", человеку спущенный свыше и никоим образом не подлежащий обсуждению и пересмотру. И тогда покорность этому (чисто внешнему, не зависящему от самого человека) принципу называется "подлинно человеческими определениями", а любая попытка протеста и стремление освободиться от навязанных сверху догматов — приписывается "чему-то низшему, примитивному". И фраза в целом звучит угрозой: дескать, если вы не захотите "свободно отдавать себя во власть", вам придется покориться банальному принуждению, полицейской дубинке. А поскольку речь идет об "абсолютах", про изменение подобного порядка вещей лучше и не мечтать; никому не позволено посягать на право власть имущих вершить наши судьбы за нас.
* * * Рассказ о Шопенгауэре Д, начинает эдаким театральным жестом, громкой фразой, претендующей на остроумие:
Надо заметить, что (по странному стечению обстоятельств...) авторов для критики Д. подобрал таких, о которых советская публика почти ничего не знает — и можно скормить ей любую нелепость под видом правды о западной философии. Но если предполагается сравнить два литературных источника, две концепции — тут сложнее. Необходимо иметь перед глазами первоисточники, или хотя бы их пересказы нейтральными лицами — только тогда можно проследить за логикой. Творения вроде книги г-на Д. бесполезны в плане анализа и сопоставления. Только тот, кто в совершенстве знает, о чем идет речь (т. е., фактически, лишь сам автор) может догадаться, что имеется в виду. Обзор или сопоставление источников, недоступных обычному читателю, производит не самое приятное впечатление. Этим автор как бы подчеркивает свою элитарность, отделяет себя от читателя. Неэтично получается. Пожалуйста, ссылайтесь на тех, кого все знают, — или, по крайней мере, с кем могут при необходимости познакомиться. Если же привлечен малодоступный материал — извольте дать представительные выдержки в приложении — либо интенсивно цитируйте в тексте. Вплоть до превращения критических заметок в подробный конспект, с краткими комментариями по ходу (в духе "Философских тетрадей"). Когда соблюсти этику комментирования автор не в состоянии — или не видит в этом необходимости, — анализ и сопоставление каких-либо концепций не имеет права ссылаться на имена. В этом случае мы самостоятельно формулируем некие обобщенные идейные позиции — предположительно типичные взгляды, которые мы уловили в потоке литературы и выразили по-своему, — и далее обсуждаем именно их, а отнюдь не конкретные воззрения единичных людей.
Лично мне в общении с г-ном Д. хватает кратких заметок на полях, разрозненных замечаний. В деталях разбираться просто незачем. Мне важно осознать не то, что считает примечательным Д., а что здесь в русле моих исканий — и как я хотел бы это понимать.
* * * Муки Толстого по поводу неизбежности смерти — от того, что жилось ему слишком долго и слишком хорошо. Он мог наслаждаться жизнью, высказывать любые мнения без оглядки на кого бы то ни было, писать все, что заблагорассудится... Эдакий здоровый молодой мерин, который если и испытывает трудности — то лишь потому, что сам себе их организовал, забавы ради. Потом пришлось столкнуться с реалиями жизни — семейные проблемы, болезни, старость, разочарования... Оказалось, что все не так просто. Тогда фрустрированный ребенок топает ногами и кричит: не хочу я такую жизнь, пусть будет смерть — назло всем.
Д. противоречит сам себе. Как показывает пример того же Толстого, выход не один: Толстой перечисляет, как минимум, четыре варианта — а потом придумывает еще и свой, толстовский. Но дело даже не в этом. Если человек смог поддаться "гипнозу" глупой мысли о собственной конечности, — значит, он не развился в достаточной мере как человек, разумное существо. И когда такой индивид ведет себя не по-человечески — ничего удивительного. Стремление втоптать в грязь все самое светлое — обычно для подлых скотов, чисто внешне похожих на людей. Так они оправдываются перед остатками совести. В частности, такой недочеловек пытается мерить по себе тех, кто честно пытается осмыслить ситуацию, не потерять способность искать (пусть даже без особого успеха) собственно человеческие пути. Если при этом выясняется, что его первобытные представления о "подлинно человеческих определениях", не выдерживают испытания разумностью, недоразвитый зритель, не умеющий мыслить сам и слепо принимающий кем-то изобретенные "абсолюты", тут же в крик: наших бьют! рушат самое святое! беспардонно очернительствуют! Но когда уничтожают чьи-то узколобые, закостеневшие "определения" — это вовсе не значит, что конец вообще всему. Просто пришла пора выкорчевать суеверия, выжечь предрассудки — освободить место для культурных растений.
* * * Толстой на каждом шагу пытается философствовать (всегда в ущерб художественности) — но культура его круга (а значит и его воспитание) не нуждалась ни в какой философии, не давала к ней реального повода. Надерганные отовсюду рассуждения (за что Толстого любят на Западе) никак ни с чем не уживаются — и выходит криво, неубедительно. Даже себя он толком не мог убедить — так что, в конце концов, махал на все рукой да шел наобум, по старой барской привычке. Вот они, плоды толстовских раздумий:
Но почему только четыре? Есть десятки и сотни других "выходов". Например, уничтожить саму смерть, сделаться бессмертным и делать бессмертными других. Или — прожить несколько жизней (сразу или по очереди). Или — закрыть тему и просто выйти к людям, в реальный мир, сломать собственную ограниченность, обрекающую человека на глупое самокопание.
* * * Самоубийством кончают вовсе не оттого, что разочаровались в жизни и "очаровались" смертью, прониклись ее неизбежностью. Заигрывали со смертью многие; для богатого барина и благополучного буржуа — это эффектная поза, попытка спрятаться за ярким фантиком от сознания внутренней пустоты, прикрыть одну бездуховность другой. Чтобы решиться покончить с собой — надо очень, очень, очень любить жизнь! Только тогда неистребимое уродство общественного бытия, напрочь закрывающее человеку дорогу к тому, что для него особенно дорого, может подтолкнуть к смерти. Самоубийство всегда — от безнадежности, от невозможности (а не от нежелания) жить.
* * * Да, "решения, принимаемые человеком так, как если бы он был совсем один на свете, — это всегда неистинные, безнравственные решения" [37]. В этом Д. совершенно прав. Только он забыл добавить, что решения, принимаемые человеком, который не в состоянии отделить себя от других (и даже от себя самого), — это вообще не человеческие решения, и к нравственности они не имеют ни малейшего отношения. Исходить из "непосредственного, не разъединенного скептической рефлексией, нравственного чувства народа", то есть, из пошлой сентенции, что "худо быть человеку едину", — это дикость, которая страшна в своей слепоте, губительна для разума.
* * * Выдуманную им "болезнь смерти" Д. умудряется приписать Ницше. И это про человека, который призывал жить, танцуя! Про того, кто характеризовал себя как
Это про человека, который мог с чистым сердцем сказать: "Мне очень радостно видеть, что люди совершенно не желают думать о смерти! Я с удовольствием бы сделал что-нибудь, лишь бы они поняли, что мысль о жизни в сотни тысяч раз достойней размышлений". Еще достойнее — не просто мечтать, но и делать жизнь, снимать различие между деянием и мечтой. Ницше идейно последователен: он требует трезвой оценки образа жизни своих современников — и оценки его резки и нелицеприятны. Для него любовь к жизни — это "любовь к женщине, которая пробуждает в нас сомнения". Но отрицать на этом основании жизнь и переселяться в мир абстрактных "абсолютов" — не для людей, а для тех, кто позволил болезни подавить разум: Вся философия Ницше стоит на отрицании смерти как единственного финала — на ее понимании как преходящего момента, необходимого для утверждения жизни. В этом Ницше противоположен Шопенгауэру — безвольному скептику, объявившему волей собственное безволие и не умеющему разглядеть в человеческой жизни и смерти ничего, кроме бессмысленной игры природной (лишенной разума) случайности — и природной же (тупой) необходимости. Человек (поскольку он человек, олицетворение разума) сам творит свою жизнь — и свою смерть. Он выше их — и в этом его вечность.
* * * Смерть — лишь момент жизни, ее вершина. Поэтому невозможно думать о смерти, не думая о жизни, и смерть всегда будет такой, какова приводящая к ней жизнь. Смерть — итог человеческой жизни, ее резюме, ее афористическое выражение. Противопоставлять одно другому — примитивное недомыслие.
* * * Забавная (говорящая?) описка: вместо слова "патопсихология" Д. пишет "психопатология" [39]. Получается, что все последующее у Д. вытекает из помутненного сознания...
* * *
Подавать Ницше как ученика Шопенгауэра, пусть даже "далеко превзошедшего учителя остротой и яркостью своего дарования" — гнусная ложь. Недолгое увлечение Шопенгауэром было связано, в основном с Вагнером — с котором в конечном итоге Ницше вынужден был порвать, отвергая в нем именно шопенгауэровщину.
* * * Критики Ницше любят посмаковать его душевное расстройство. Тем самым они уподобляются прочим недочеловекам, выпячивающим пороки других в оправдание собственной, куда более фундаментальной порочности. Пошлые сентенции Д. полны высокомерия: дескать, ну какой философии можно ожидать от психически больного? Но болезнь Ницше лишь подчеркивает его духовное превосходство над Д. — чтобы потерять "разум", надо, как минимум, его иметь. Быдлу, покорно принимающему пошлость бытия, сумасшествие не грозит. Заказному философу, оправдывающему уродство современного ему общества, провозглашающему вечность и неизменность рыночной экономики под видом "общечеловеческих ценностей" и "нравственных абсолютов" — обеспечено комфортное существование самовлюбленного буржуа; ему, конечно же, не страшна никакая болезнь.
* * *
Знаменитая ницшевская формула: Сократ убил древнегреческую трагедию — всего лишь констатация общеизвестного факта смены эпох в античной культуре. Первобытному разуму предстояло утвердить себя, противопоставить себя природе, осознать собственную необходимость. Поэтому древнейшая философия внешним образом присматривается к окружающему миру, пытаясь усмотреть его собственное движение, из которого с неизбежностью вырастает человек. Следующий этап — осознание активности человека, его способность творить мир (и богов) по своему образу и подобию. Человек не просто дитя природы — он ее смысл и закон. Недостаточно познавать мир (и себя) — надо еще и очеловечить его (и через это — себя). С именем Сократа Но в Рождении трагедии речь о другом. В мировоззрении греков досократовского периода Ницше выделяет два больших этапа, которые он условно связывает с именами Аполлона и Диониса — имея в виду старинную идею противоположности света и тьмы, гармонии и хаоса, вдохновения и опьянения. Трагедия, согласно Ницше, возникает именно в "дионисийский" период, разрушая "аполлонические" культурные традиции. "Дионисийская" мысль уходит от деятельного слияния человека с миром, характерного для "аполлонического" периода; на новом этапе человек — не просто часть мира, он противопоставлен ему (но, ведь, этого мы и добивались, не так ли?). В таком контексте, идеологический переворот Сократа и Платона логично продолжает все ту же линию исторического развития. Ничто не возникает из ничего.
Главная идея Ницше — историзм, неизбежность гибели любой культуры и абсурдность каких бы то ни было "абсолютов". Вот за это и не любят Ницше всяческие морализаторы, жаждущие спустить на человечество очередное предписание свыше в качестве раз и навсегда открытой "истины" или вечного и неизменного нравственного "императива". В своей книге Д. всячески замалчивает ницшеанский историзм и трактует "аполлоническое" и "дионисийское" начала как вневременные "абсолюты", неизменно сосуществующие в культуре любой эпохи. Да, когда-то сформировавшаяся противоположность оказывает влияние на все последующее — и следы нашего прошлого так или иначе присутствуют в нас. Но в том и суть исторического развития, что всякая противоположность должна быть снята, она продолжает себя лишь как момент единства.
* * * Ницше справедливо указывал, что "аполлоническое" восприятие мира связано с неразвитостью разума, с низким уровнем (со)знания. Только при этом условии возможен первобытный синкретизм мысли и действия, предшествующий всякой вообще рефлексии. Человек далекий от разумности ведет себя как сомнамбула — он движется (хотя иногда весьма успешно) в странном, условном мире — как будто специально созданном для него. Ницше постоянно использует метафору "покрывала майи", обольстительного самообмана, грез наяву. Чернь принимает поэтический образ за дурную буквальщину — до поэзии ей не дорасти.
* * * Д. пытается подредактировать своего кумира Толстого: дескать, не об эпикурействе надо было говорить, а о гедонизме... Для обывателя "эпикурейство" — синоним "удовлетворения похотям". Но весьма начитанный г-н Д. осведомлен, что на самом деле учение Эпикура полностью противоположно гедонизму, поскольку оно, вроде бы, требует разумного ограничения чувственных удовольствий. Меняет это логику Толстого? Нисколечки. "Второй выход" возможен и по Эпикуру, только речь тогда вовсе не о разнузданной погоне за удовольствиями. Следующее за тем отождествление "дионисического" начала с гедонизмом — полный маразм. Но и этот маразм — можно усугубить, приписав "дионисийство" самому Ницше — тому, кто призывает к разумности даже в отношении собственного разума и на каждом шагу твердит о необходимости "преодоления человека" с его метаниями, болезненными противоречиями — след житейской неустроенности, болезней общества.
Можно подумать, Ницше от рождения только бредил и кидался на окружающих с "лихорадочной мыслью". То, что больной человек — это прежде всего человек, обывателю в голову не приходит. Малейшее отклонение от "нормы" обыватель воспринимает как потенциальную угрозу и старается откреститься от любых "странностей". Но больной человек мыслит ничуть не хуже здорового, а некоторые — намного лучше. Но, конечно, самое возмутительное — это посягательство на моральные (то есть, религиозные) устои. Буря негодования: надо же, против бога! Антихриста проповедуют — разве это не безумная идея? То ли дело Достоевский и Толстой — они все про бога твердят... Если даже бог у них какой-то не такой — можно простить, поскольку сам принцип религиозного раболепия соблюден. В современных переводах Ницше употребляют более точное слово "антихристианин" — и от образа психа с вытаращенными глазами и пеной на губах приходится отказываться. Никогда не собирался Ницше становиться антихристом — но всегда был антихристианином, равно как и антимусульманином, антибуддистом, антишаманистом — и даже антизороастристом. Ницше против любой религии — вот что кажется самым страшным господину Д. и иже с ним. Значит — против любой морали, против предписанных начальством "абсолютов". Так и кажется пошлым морализаторам, что вот-вот набросятся на них с топором, аки Раскольников на двух бабушек... А Ницше писал, что о тупых обывателей не стоит руки марать — пусть вымирают сами. О будущем думать надо, о том, что придет им на смену. Но где там! В ужасе тычут буржуа в мыслителя пальцами и кричат самое страшное ругательное слово: "Богоборец!"
Кто тут недалекий — Д. мог бы увидеть в зеркале. Ему, конечно, невдомек, что Воля к власти имеет к Ницше весьма отдаленное отношение — те, кто ее компоновал, были рядовыми злобствующими филистерами, вроде г-на Д., который обрушивается на философа всеми филистерскими силенками:
Кто бы говорил о вульгарности! Достаточно хоть раз по-человечески пообщаться с Ницше, чтобы понять: его "сверхчеловек" не имеет ничего общего с глупой физиологией — напротив, он подчиняет животное начало разуму, чего современный человек в массе не умеет. И потому возможно говорить от сверхчеловеке — и том, идет на смену мелким людишкам. А уж о том, чтобы культивировать в себе что-то "в качестве божественного" — это пальцем в небо. Суть-то как раз и состоит в отказе от любых богов, в утверждении суверенного права человеческого разума самостоятельно решать, что правильно, а что нет, без оглядки на подленькую обывательскую мораль, абстрактные "абсолюты" и распоряжения сверху. Человек поступает нравственно лишь тогда, когда он ведет себя разумно, ибо нравственность — один из атрибутов разума. А значит, нет и не может быть в этике застывших догм: человек разумный вправе устанавливать этические нормы в соответствии со своим пониманием исторической необходимости — и отказываться от них, когда они исторически изживают себя. И в этом благородном деле ему даже Лев Толстой не указ.
* * * Попытки Толстого возразить Шопенгауэру — классический пример философской беспомощности. При том, что Шопенгауэр — отнюдь не эталон мудрости, и склонен высасывать из пальца псевдопроблемы, подавая их под соусом кабинетной учености, — "опровержения" Толстого и на таком фоне выглядят детским лепетом. Вывод о том, что "разум есть сын жизни" — чистой воды демагогия. Пока ни то, ни другое толком не определено, из ничего запросто выводится что угодно. Жизнь человека — совсем не то же самое, что жизнь животного. И различаются они как раз отношением к разуму. В этом смысле, возможно, следовало бы сказать наоборот: человеческая жизнь (в отличие от жизни животной) есть порождение разума. И попытаться показать, как на деле такое происходит. Но допустим, что Толстой умеет разумно обосновать тезис о порождении разума жизнью (поскольку это вообще возможно). Однако он тут же спотыкается о банальную обывательскую метафизику: [49] Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно. Но почему — нет? Напротив, такое отрицание вполне естественно, мы наблюдаем его на каждом шагу. Дети отрицают своих родителей — обычный конфликт поколений. Огонь уничтожает топливо и кислород, устраняет условия для горения. Козы съедают всю растительность на острове — и вымирают от голода. И так далее. "Неладно" в голове у Толстого, а Шопенгауэр тут ни при чем.
Из того, что "эти дураки — огромные массы простых людей — ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что их жизнь очень разумно устроена", вовсе не следует, что живут они правильно.
С другой стороны, идея Толстого, будто массы живут легко и беззаботно, "и им кажется, что их жизнь очень разумно устроена", есть, по меньшей мере, глубокое заблуждение. Непросто живется тому, кому не довелось родиться барином: приходится барахтаться в житейском болоте, выцарапывать у жизни минимальные условия для хоть сколько-нибудь терпимого существования. О разумной устроенности такой жизни и речи нет — даже думать об этом народу некогда. И если кое-кому кажется, что "все на свете — органическое и неорганическое — все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо", — это не "мудрость мудрецов",
Третий "тезис" Толстого стоит первых двух... Отрицать — не значит убить. Убийство всего лишь заменяет бытие небытием, ничего не меняя по существу. В этом и сказывается отличие человеческой жизни от жизни животного. Но даже в биологии смерть особи не имеет особого значения для существования вида; и уж тем более распад единичного органического тела не уничтожает человека. Люди гибнут — но не умирают их идеи, их дела. Мысль о бессмысленности равнодушного самоубийства — один из редких проблесков мудрости у Шопенгауэра; Толстой даже до этого не дорос. Бессмысленность жизни приводит к бессмысленной смерти. Те, "которые потеряли смысл жизни", вовсе не хотят себя убить — им недоступны хотения как таковые, им просто все равно. Напротив, отрицание того, чем живут "миллиарды отживших и живых людей", — это знак подлинной заинтересованности, (отрицательное) выражение необходимости переустраивать мир, убить не себя, а уродскую жизнь.
* * * Огульно объявлять разум "абстрактно-теоретическим" (другого, видимо, нет...) и заменять его толстовским "сознанием жизни" — подставлять одну абстракцию на место другой. Что есть "сознание, находящееся в соответствии с фактом его бытия"? Кто-нибудь может придать этой трескучей фразе разумный смысл? Вряд ли. Судя по высказываниям Толстого, его "сознание жизни" как раз предполагает отсутствие не только разума, но даже и элементарного самосознания. Дескать, жили до нас миллиарды, и после нас будут миллиарды землю удобрять, — стало быть, и нам туда дорога, в компост. И нечего тут рефлексировать. Но Д. надо и здесь блеснуть дырами в логике:
Если кто-то живет — то вовсе не обязательно потому, что сознает осмысленность этого занятия. Как раз наоборот, проще тянуть лямку, ничего не осознавая, тупо, как последняя скотина. А если идея бессмысленности жизни никогда не овладевала умами — то зачем тогда Д., вслед за Толстым, разводит по этому поводу словеса?
* * * Толстовское "решение" проблемы наглядно показывает суть всяческих "абсолютов" — это произвол власть имущего. Отказываться от удовольствий жизни барину, конечно же, не хочется — и он слышать не желает интеллигентские призывы малость потесниться. Но искать сколько-нибудь разумные контраргументы (было бы против кого!) ему в лом. Вот он и придумывает отговорку — "сознание жизни". Пустая абстракция, чистый ноль. Этот ноль к чему ни приплюсуй — к нему не добавится, отними от чего — от него не убавится. Зато всех идейных противников теперь можно с чистой совестью помножить на ноль. И торжествующе заявлять: вот видите, "и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество: 0 = 0, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто". А я, дескать, вообще ничего в этом плане не представляю — мне с моим аристократическим "сознанием жизни" и так хорошо.
* * *
Если капрал говорит, что вся рота идет не в ногу — он прав, ибо именно ему начальством вверено право (и вменено в обязанность) судить и определять. Как бы там ни думали про себя плебеи — они вынуждены подчиняться уставу. Но согласно уставу, идти в ногу — не значит двигаться синхронно самим по себе, безотносительно к чему бы то ни было; это значит — выполнять поставленную командованием задачу, и следовательно, двигаться так, как приказано.
* * *
Ссылка на миллиарды людей, которые, якобы, жили и живут, не задумываясь о бессмысленности своего существования, подобна "доказательству" бытия божия исходя из якобы очевидного факта — наличия миллионов прошлых и нынешних верующих. Сказывается исконно религиозная суть толстовства. Но, во-первых, даже миллиард слепцов не докажет зрячему, что света нет. Во-вторых, если попробовать на зуб веру каждого — по большей части она окажется фальшивкой. Просто кому-то очень удобно, чтобы все считались верующими.
* * * Когда "некто, утверждающий, что жизнь абсолютно бессмысленна и гнусна, тем не менее продолжает жить точно так же, как жили до него и живут при нем миллиарды людей" — это и есть настоящее отрицание жизни! Скотское существование вопреки протестам разума.
* * * Толстой не понял Шопенгауэра — и отсюда заключает, что "знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным". Но жизнь — не только знание. Искусство кулинарии не сводится к сборникам кулинарных рецептов. Важно знать и уметь — еще важнее не стать рабом знаний и умений, творить. Человеческое творчество — это не случайность, это сознательное действие. Чтобы заняться "решением" вопросов, надо еще умудриться их правильно поставить — что и пытаются по мере сил делать философы. Не сможет один — подхватит другой. Философия не сводится к Соломону и Шопенгауэру — есть мудрецы и покруче. Было бы странно по опыту одного дождливого дня заключить, что в погоде всегда дождь. Почему бы Толстому (или Д.) не посоветоваться с Аристотелем, Гегелем, Марксом? Кишка тонка. Для настоящего философа, в конце концов, и нули что-то значат, и "0 = 0" — совсем не тривиальное утверждение... Но Лев Толстой как философ = 0. А уж Д. — и подавно.
* * * Согласно Толстому (в интерпретации Д.), разума у человека нет, и все сводится к вере: "одни верят в то, что жизнь не имеет смысла, а другие не верят в это и, наоборот, считают ее исполненной смысла". Почему — "наоборот"? Почему не может быть других решений? Ну да ладно, простим убогим. Однако дальше следует поистине иезуитское предписание:
Иными словами, всякое инакомыслие наказуемо. Малейшая попытка протеста — преступление против "большинства человечества", против "полноты" стадного смысла. Короче, давить надо всяческих проповедников "эпикурейства", поскольку начальство решило, что их "вера" (а про человеческие, сознательные убеждения Толстой и Д. ничего не знают)
Тут барин выдает себя с головой: пользоваться ("потешаться") трудами других — это его прерогатива; остальные должны лишь обеспечивать ему барскую жизнь. Однако в глубине души всякий барин смертельно боится бунта, и ему хочется хотя бы относительной безопасности — чтобы раб не скрипел втихаря зубами, а демонстрировал веселость и восхищение заведенным порядком
* * * В качестве одной из мер пресечения смуты — обычное предложение самоустраниться по-хорошему, добровольно, — чтобы начальству не тратиться лишний раз на административный ресурс:
Именно свою! Но другой-то нет... С точки зрения последователей Шопенгауэра нет смысла говорить о "жизни вообще" — мы о ней ничего не знаем, нам предъявлена только наша собственная жизнь.
На этом месте наследник Шопенгауэра просто останавливается — делать какие-либо метафизические выводы не в его манере. Однако те, кто чуточку знаком с Гегелем или с марксизмом, могли бы заметить, что единичная жизнь протекает в определенных общественных условиях — впитывает их в себя. Если чья-то личная жизнь — зло и бессмыслица (кому — зло? для кого — бессмыслица?), есть нечто в устройстве общества, что позволило ей такой стать. И стало быть, единичная жизнь представляет собой нечто всеобщее, является частным выражением общего правила ("проецируется на жизнь вообще"). Отмахнуться от единичного не получится: оно есть, оно факт! — и чем громче шикают, тем больше подчеркивают эту неприличность. Статистика — игрушка буржуазная; в свободном обществе людей не усредняют, а наоборот, присматриваются к единичностям на предмет изменить что-то вообще.
* * *
Очень по-российски — юродствовать, бить себя в грудь и каяться: дескать, вот он, я, пес смердящий, редиска, нехороший человек... А потом барин встает с колен, лакеи быстренько чистят запачканные штанины — и можно продолжать барствовать как ни в чем ни бывало.
* * *
Это шаг назад. Говорите только о других. О вас — они скажут. Брать в качестве объекта себя — это не возражение Шопенгауэру, а слепое следование его методу, идеалистически подменяющему реальную жизнь индивидуальными впечатлениями. Сам того не замечая, Д. препарирует Толстого под тупоголового улучшателя западных систем, неспособного отрешиться от навязанного ими "критического" метода — заменить критику делом.
* * *
Абсолютная бредятина! Нет ничего "изначального". Особенно в области морали. Но фокус в том, что на место одного абсолюта Толстой тупо ставит даже не другой, а тот же самый, но в еще более абстрактной, оторванной от жизни форме — поскольку теперь он может не оглядываться на окружающих, а полностью погрузиться в лицемерное самокопание. Ответ по типу "сам дурак": не мы "плохие" — а вы "безнравственные, бессовестные, бесчестные"! Хрен редьки не слаще. Тут Д. всеми конечностями за, и добавляет от себя:
Вот-вот. Мы тут за свои блага боремся! А если кого побьем — они сами виноваты, что мы на них злые. Метафизику в голову не придет, что нет людей самих по себе — и не могут они сами себя сделать никогда и ничем (даже ничем!). Единичное лишь выражает всеобщее — которое только таким способом способно обнаружить свою всеобщность. Моя боль — боль общества; моя воля — воля человечества. Поэтому безнравственно делить все на "мое" и "не мое" — искать виноватых.
* * *
Тот еще букет! Достаточно объявить кого-то абстрактно "хорошим", возненавидеть себя, поюродствовать немножечко, — и можно уже не заботиться о своем нравственном развитии, и так сойдет. Тем более незачем думать о переустройстве общества: раз человечество уже сейчас сплошняком состоит их "хороших" — о чем еще мечтать? все и так замечательно. Хотя и портит пейзаж существование "нескольких паразитов жизни" — это досадная случайность, не более... В переводе: царская Россия — образец благоденствия, и вешать надо смутьянов, сомневающихся в осмысленности установленного порядка: смысл жизни господ — возлюбить самих себя; смысл жизни рабов — обеспечить господам условия для самовлюбленности и не смущать бунтами (как водится, дикими и бессмысленными). Похристосоваться с быдлом на красный день, демонстративно покаяться — и можно снова ездить на чужом горбу в рай и обратно... Истина, которая "всегда истинна", = ложь. Нет вечных истин. Разум на то и дан человеку, чтобы понять, как истины рождаются, развиваются и отмирают (превращаются в другие). Говорить "о жизни человечества", игнорируя жизни отдельных людей, — занятие бесплодное. Нельзя произвольно отбрасывать то, что, по видимости, не укладывается в рамки новообретенной "истины". Если единичное явление противоречит провозглашенному нами всеобщему благолепию — встает закономерный вопрос к нашей теории: а истина ли это? Может быть, исто веруя в то, что 2 2 = 4, мы просто прячемся от трудностей, с которыми мы не сумели справиться, которых испугались.
* * * Толстого можно уважать — хотя бы за его запоздалые попытки пересмотреть прежние ценности, противопоставить себя своему классу. Даже если посылки половинчаты, а выводы беспомощно абстрактны. Даже если учесть, что господство этого класса было уже практически упразднено дорвавшейся до власти буржуазией. Конечно, толстовские хождения в народ попросту смешны — в печальном смысле слова. Но он хотя бы не гнушался грязной работы и умел не отстать от работяг в простых практических делах.
Однако то, что Толстой применял свои идеи лишь к себе, а не к обществу в целом, совершенно их обесценивает. Ну, косил он траву, пахал, деревья выкорчевывал... Что с того? Прочим господам от этого ни холодно, ни жарко. Этот принцип властями подхвачен и положен в основу буржуазной системы промывания мозгов: внимание масс любыми средствами следует отвлечь от главной причины трудностей — капиталистической системы производства. Стихийные протесты направляются против частностей, поощряется "активная жизненная позиция", участие в "общественной жизни", "гражданственность"... Не надо обобщать. Боритесь с симптомами болезни, а не с болезненностью как таковой. Приносите "реальную" пользу. Такая борьба ничего радикально не меняет, и можно развлекаться до бесконечности. Так "цепь умозаключений, по всей линии выстраивающихся против шопенгауэровского пессимизма" приобретает у Толстого (à la Д.) совершенно шопенгауэровскую окраску. Шопенгауэр в них продолжает жить и здравствовать, а на всяческие "возражения" только посмеивается в гробу: ага, достойного ответа таки не нашлось!
* * *
Обосновывать необходимость труда тем, что это "призвание и долг каждого человека: деятельное выражение благодарности за тот дар, что он получил", — чисто буржуазная этика. Дескать, платите долги. Неважно, на кого вы работаете, Тут вылезает внутреннее противоречие: выходит, что "дары", которые получают одни, сильно отличаются от "даров" другим. Один живет, как барин, — другой еле концы с концами сводит. За что же быть благодарным судьбе? Единственный выход для апологетов капитализма — свести человека к животному, объявить самоценной его физиологию, — уж этот-то "дар" у всех, вроде бы, одинаков... Но как быть с органическими дефектами, с врожденными или приобретенными заболеваниями и травмами? В рыночной экономике для того, чтобы продлить жить, больному человеку требуются значительные средства — далеко не у каждого они есть. Даже минимальное удовлетворение органических потребностей здорового организма доступно не всем: миллионы людей гибнут от голода, холода, жажды, нездоровых условий существования. Без философского идеализма и религии тут не обойтись — жизнь превращается в абстрактную идею, в нечто предписанное свыше, "дарованное" кем-то, кому нельзя возразить. Дареному коню в зубы не смотрят. Даже если конь — троянский.
* * * На с. 54 у Д. просто фантастические нагромождения чепухи и буржуазной пропаганды:
Поскольку в предыдущей главе мы видели, что конечность человека (то есть, сведение человека к животному) вызывает чувство протеста и отрицание нравственных законов (раз уж все равно за человека не считают), следует понимать эту фразу в том смысле, что держать такого "конечного" (или — "конченного"?) человека в узде можно только подчиняя его (при помощи плетки, пулеметов и атомной бомбы) "непреложным нравственным законам" (которые буржуи объявляют "общечеловеческими ценностями").
Раз уж другие, более осязаемые награды начальство разобрало по себе, так хоть побаловаться мечтательными надеждами, что не просто так прозябаешь, а для чьей-то выгоды... И этот кто-то от щедрот иной раз теоретически может устроить рабам веселое представление, в смысле зрелищного мероприятия — или атомной войны. Всякие нигилисты, конечно же, скепсис разводят. Дается — кем? Серьезность = покорности? Действительно, согласно Д.:
Бред! Кто сказал, что бытие — это всегда благо? Для кого как. Вспомните Гамлета. И что значит — "воздавать жизни", если от жизни остается одна абстракция бытия? Скрытый посыл метафизического фразерства: если долго и покорно трудиться на барина (произволом которого раб только и может существовать — и рабство становится способом расплаты за то, что рабу пока позволено остаться в живых), можно отупеть настолько, что рабская покорность станет смыслом жизни, и тогда раб уже не способен на человеческие чувства и готов тупо тянуть лямку и впредь. Та же лапша у апологетов репродуктивной животности: родители, дескать, одарили вас жизнью — будьте благодарны по ее гроб, и сами покорно размножайтесь по указке вышестоящего начальства... Разумеется, говорить и личностном самосознании тут не приходится, и такое "осмысленное" отношение затравленного зверя к жизни не есть нечто "партикулярное", оно "раскрывается для него через отношение к окружающим людям" (то есть, через принадлежность стаду, общине, классу, нации). Тут как тут категорический императив, в самой вульгарной форме: "Не причиняй другим того, чего не хочешь, чтобы они причинили тебе", — и наоборот: "Поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе". Библейское фарисейство в полном разгаре. И это называется "жизнью"! Милая естественность одних — смерть для других. Когда резвое дитя скачет как лошадь по квартире и орет во все горло — все умиляются "живой жизни", и никому и в голову не приходит, что за стенкой кто-то страдает от шума. Пожалуйста, вы можете поступать так же. Хочется пьянствовать по ночам — вполне живое желание, каждый вправе. Хочется мастеровому хозяйчику стены долбить годами — жизнь, стало быть, в нем так играет. Подумаешь, кто-то сошел от этого с ума, кто-то покончил с собой... Это их проблемы. Они ведь имели такое же право вести себя по-свински — но почему-то не захотели. Неблагодарные. Так дикари — убивают людей. Живая жизнь — убивает жизнь разумную. И тут г-н Д. начинает разглагольствовать о "большой и суровой ответственности, которая возлагается таким образом на человека", о "праведности" отношения к другим людям:
Да какое там самопожертвование! Свинье нравится валяться в грязи — и она хочет весь мир превратить в одно большое свинство. Еще один, (если бы уж заключительный!) аккорд:
Действительно, если считать, что существующий способ производства установлен раз и навсегда, и следует лишь работать на чужого дядю, не помышляя о разумности, — человек вынужден безропотно принять свое место в жизни как ее единственный смысл. Трудно тянуть тяжести волоком (хотя есть, подъемные краны и грузовики, рядом ходят поезда, над головой аэропланы, да и пароходы на воде не перевелись) — терпи, вообрази, что это не кара, а дар; а что даровано свыше, то вполне осмысленно и не случайно — так что не вздумай изобретать очередное колесо! Точно так же, если кто-то имеет право ежедневно плевать вам в морду (которую и лицом-то уже назвать-то нельзя) — таков, стало быть, абсолютный нравственный принцип, и вы (с вашей-то мордой!) даже это должны считать наградой. Д. полагает (не знаю, насколько искренне), что общение с другими способно привести лишь "к убеждению в абсолютности нравственных принципов" — то есть, к философскому идеализму. Тем самым идеализм утверждается в качестве единственно возможной философии, к которой каждый, якобы, приходит "еще до того, как начинает философствовать". Оказывается, никаких материалистов никогда и не было. Про Маркса, Энгельса, Ленина г-н Д. и слыхом не слыхивал. Или делает вид, что не читал. По крайней мере, что и читал — не понял. Не захотел понять. Если нечто дается человеку как награда — значит, это у человека когда-то отняли, и кто-то узурпировал право карать и награждать. Разумеется, критерием служит соответствие классовой осмысленности. То есть — каждому свое; любимый лозунг гитлеровцев. Сомнения в этом абсолюте ведет к отлучению от всяческих благ — и превращению в абсолютное зло, в козла отпущения. Чего лакействующие филистеры боятся больше всего на свете. У свободных людей другая логика: все, что есть в этом мире, никому не принадлежит — это продукт совместного труда, и никто не вправе чего-то лишать или к чему-то принуждать других. Каждый сам вырабатывает убеждения — но не "свои", а разумные, всеобщие, нужные всем. И дело не в том, чтобы изо дня в день воспроизводить "материальную жизнь" — а в том, чтоб творить, переделывать мир, отрицать его вечность и неизменность. Делать жизнь — а не выискивать в ней смысл.
* * *
И вот, наконец, подтягивается самое интересное...
Компот с гуталином. Религиозные сказки про "дарованность" бытия и "благодать" — оставим пока без внимания: это продолжение темы про смысл жизни рабов. Насчет "сохранения" — та же барская метафизика: не вздумайте посягать на устои! Важный материалистический момент: любовь, во-первых, неразрывно связана с трудом, с совместной (но не "разделенной"!) деятельностью людей, а во-вторых, она не сваливается с небес в готовом виде — ей надо учиться. С другой стороны, про осмысленность — тоже достижение: для животного другие особи — биологическая случайность и внешняя необходимость; для разумного существа общение не только обязанность — но и сознательный выбор.
Весьма недурно. Собственно, это и есть определение сознания: внешние отношения принимаются как внутренний закон, как желание (в отличие от животных позывов и влечений) и стремление — как мотив и цель. Определенность деятельности не только в ее материальном продукте — это еще и определенное отношение к другим (кому, собственно, продукт и предназначается). В совместной деятельности людей производство отделяется от потребления — и становится возможным их синтез как исторически определенный способ общественной организации. Человек не может быть "вне" своей эпохи, он вырастает из нее и выражает ее черты; только так может появиться потребность творчества, а изменение внешних условий бытия воспринимается как преобразование самого себя. Очень важны кавычки у слова "другой": общественная сущность человека разумного выражается, в частности, и в том, что к себе он относится как к полноправному представителю общества в целом, как к "другому", — а других принимает как внешнее воплощение каких-то своих определенностей. Любовь становится уровнем рефлексии — это не просто отношение к миру, это отношение к себе.
Нет, любителю с профессионалом тягаться — дохляк. Тут надо уметь. "Ответственность за дар" — ну, очень круто! Всучили тебе неликвид — и ты же виноват в собственной "одаренности". Принцип буржуазной пропаганды: имеешь право стать буржуем! — рынок на всех один, а нищета — только от лени, от личной нерадивости, от неумения (или нежелания) грабить других. Что само буржуйство (с его "правами") не всех устраивает — мысль еретическая. Если общественно человеческое бытие (и человеческая жизнь), то не менее общественна и человеческая нравственность, сознательное отношение к собственному бытию. Как соотносится единство культуры с индивидуальностью — вопрос конкретно-исторический. По-разному в разные эпохи. Противопоставление людей друг к другу в этической сфере проистекает из их объективной противопоставленности друг другу в экономике; сама идея ответственности — порождение вполне определенного экономического строя, превращающего сотрудничество в конкуренцию, а взаимопомощь — во взаимозависимость.
Индивидуальность — лишь одна из форм социальности. Есть и другие, в том числе те, о которых сегодня, в условиях безраздельного господства "абсолютов" капитализма, мы не можем даже догадываться. Но даже в пределах исторически навязанной нам противоположности общества и индивида можно бы добавить хоть чуточку диалектики и не делать раба виноватым всегда и во всем! По большому счету, за его провинности отвечает хозяин — буржуй, бог или родители. Пока есть само понятие вины — индивидуального выбора никто не отменял. Но господам очень не хочется, чтобы рабы выбирали смерть, — как освобождение, возможность не быть рабами.
Раба хотят лишить даже этой собственности. Оказывается, его жизнь (читай: рабочая сила) ему изначально не принадлежит, и распоряжаться ею он не вправе! Это шаг назад, от капитализма к рабовладению. Сюда же примыкают колониалистические теории об "ответственности белого человека" — то есть, и буржуй не вправе предать свой класс, призывать к отказу от эксплуатации человека человеком; все, что ему дозволено, — благотворительность, использование части награбленного для создания более благоприятных условий для грабежа. Слово "вместе" — недаром взято в кавычки! Это не общественное бытие (совместное творчество) — а всего лишь коллективность: всех сваливают в кучу, раздают лопаты — и "даруют" общую работу на барина, которая нисколько не объединяет людей, а наоборот, приучает ненавидеть конкурентов. Здесь Д. (по глупости?) выбалтывает основные принципы промывания мозгов: запрет интимности, вторжение в личную жизнь ("открытость"), насаждение коллективности "с раннего детства", подавление сознательного отношения к себе и другим, некритическое принятие спущенных сверху "даров". Рабы должны чувствовать себя стадом — которое целиком зависит от мудрого пастыря; кто отбился — смерть. Время от времени некоторых и обрекают на смерть — баранина для барского стола. Но вот продолжение:
Постигая смысл жизни (а это возможно только через любовь — другого пути нет!), человек преодолевает смерть — и ему не надо еще и ее осмысливать. Любовь делает человека бессмертным, тем самым снимая конечность жизни, рождение и смерть . Но именно этого меньше всего хотели бы хозяева жизни. Делиться жизнью с рабами они не хотят, однако не прочь уделить им капельку смерти: дескать, вы умираете не просто так — а за великое дело (то есть, за успех общего бизнеса). Гладиаторы на арене. Осмысленно говорить о действительности любви возможно лишь понимая это категориально, диалектико-материалистически. Любовь не фантазия, на субъективное состояние; это прежде всего сознательное действие, стремление изменить мир. Смысл — это и есть отношение к деятельности, к ее (исторической) направленности, ее (общественным) мотивам. Если жизнь — не просто животное существование, а орудие труда, условие деятельности, — она осмысленна. И точно так же могут быть осмысленными рождение и смерть. Напротив, рождение, жизнь и смерть раба (или гнилого интеллигента) — совершенно бессмысленны. Тем не менее, когда эта бессмысленность становится мучительной — верный признак пробуждения разума, попытка отделиться от стада, избавиться от тупой "благодарности" за то, что хоть что-нибудь дают ("все хорошо, прекрасная маркиза!"), стать свободной личностью — без чего не бывает любви. Иначе — остается чистая абстракция, абсолют, "истинно нравственный смысл" — в котором нет ни истины, ни нравственности, ни смысла.
* * *
Если постигать не "внутренностями", а понимать любовь в диалектико-материалистическом ключе — почти глубокая и почти правильная мысль. Но скользкие формулировочки на каждом шагу протаскивают идеализм. Бессмертие — это не жизнь после смерти, как объясняют попы. Оно вообще вне жизни и смерти, оно снимает их различие. Когда человека утешают: ты все равно умрешь, но тебя продолжат другие, — это не отменяет самого факта моей "собственной" смерти. Материалист сказал бы: "она не кончается". Точка. Идеалист добавляет: "с его собственной кончиной" — то есть, все-таки кончается. Когда человек любит (излишне добавлять: "истинно", "по-настоящему" — неистинной и ненастоящей любовь не бывает), для него вопрос о жизни и смерти вообще не стоит. У него есть нечто более высокое. Далее, человек остается жить не в тех, кого он любит, — а в том, что он совершил (в частности, этим свершением может стать и другой человек). Совершенно материально, а не в качестве "вечной памяти". По логике Д., любовь обязана быть взаимной — чтобы по кусочку себя раздать тем, кто согласится принять "дар". А остальное человечество? Только фон для межсобойчика? Как-то не по-людски получается... Память — не в самом человеке, она в других. И не всегда добрая. Нередко бывает, что людей помнят за то, чего они никогда не делали (например, живой Антонио Сальери в потомках раздвоился на великого музыканта и подлого убийцу). Более того, помнить могут и того, кого вообще никогда не было (вроде Козьмы Пруткова или Иисуса Христа). Остаться в других — дело нехитрое. Для этого вовсе не нужно кого-то любить. Надо просто уметь себя пристроить (как деньги вложить). Способность любви — совершенно противоположна бизнесу. Любящему безразлично, есть ли он сам, — ему важно, что есть любовь. Полюбят ли его в ответ, получится ли из этой затеи что-либо полезное и значительное, останется ли что-либо в ком-нибудь — не все ли равно? Люблю — и это освещает все вокруг (даже такую мелочь, как жизнь или смерть). Только в этом свете я могу видеть мир, во всей его красоте, и во всем безобразии. И с открытыми глазами (или — просветленной душой) заниматься переустройством мира, делать его воплощением любви. Не в этом ли суть разума? Именно в любви человек чувствует себя равным мирозданию; в нем просыпается Вселенная. В любви исчезает само различие "ты" и "я"; поэтому нельзя сказать: "моя любовь" — есть просто любовь. Не потому, что человек забывает о себе — а потому что он становится другим, возвышается до любви — и возвышает весь мир. Очевидно, раздробленное на кланы, нации, классы и сословия человечество — не самая плодородная почва для любви. Именно поэтому редкие встречи с ней воспринимаются как чудо, откровение, великое потрясение и озарение. Когда-нибудь — если случится до этого дорасти — любовь станет нормальным состоянием разумного человека. И будет совсем другая жизнь...
* * * Господа смотрят на рабов как на нечто безусловно низшее, как на насекомых, лишенных сколько-нибудь человеческих черт. Г-н Д. с восторгом цитирует Толстого:
Граф бесконечно далек от народа — о его бедах он не знает ровным счетом ничего. Какие-то мухи дохнут миллионами — и никто против этого не возражает, все тихо-спокойно, сплошной восторг и благолепие. Что человечье насекомое способно чувствовать и переживать — барину и в голову не приходит.
Супер! Оказывается, рабство и нищета — это "величайшее счастье"! Несчастные господа всю дорогу страдают в своих хоромах (с жиру бесятся) — а крестьянин в развалюхе или рабочий в казарме (или проститутка в борделе) беспредельно счастливы. Ради такого дела можно закрыть глаза на вопиющий факт: история цивилизации всегда была (и остается) борьбой классов. Рабы отнюдь не "спокойно трудились, переносили лишения и страдания" — нет, они постоянно восставали — но восстания эти подавлялись железной рукой, чтобы очередной зажравшийся "страдалец" мог без опаски строчить подлые пасквили о величайшем счастье угнетенных масс.
Надо отдать Д. должное: он совершенно точно выразил классовую суть толстовства, его идеалистическую основу. Любовь можно в каких-то обстоятельствах сделать этическим принципом. Но любая попытка свести любовь к этике и этику к любви означает лишь одно: смерть любви и уничтожение нравственности как таковой. Любовь = свобода, нельзя любить по обязанности, по предписанию сверху. Дареному коню в зубы не смотрят — очень удобная поговорка для господ всех мастей и прислуживающих им идеологических диверсантов. "Высшая" любовь по-толстовски — это любовь, "дарованная" свыше, — в переводе на человеческий язык: любовь к вышестоящим. А любовь (как разум) не бывает различной "сортности"; невозможно любить "по частям" — ибо любовь и есть человеческое выражение целостности, единства мира.
Бытие — не "нравственный факт", а именно факт бытия, из которого и вырастает всякая нравственность. Презрительное отношение господ к "эмпирии" — продолжение все той же идеалистической позиции, оправдывающей классовое господство "высшими соображениями", вопреки исторической очевидности. Барин пользуется всеми благами — и требует, чтобы все считали (его, барское) бытие благом. У него много всяческого добра — и поэтому он (по определению) добрый. Делиться он ни с кем не собирается (разве что по дури) — а рабам оставляет лишь "постижение бытия как абсолютной целостности и единства": нечто, выделенное (барином) рабу персонально ("дарованное именно ему"), — принадлежит "ему вместе с другими" [57]: я даровал — я и отнять могу в любой момент (и отдать кому-то еще); или по скорбной русской пословице: бог дал — бог и взял. А разу уж все под богом ходим, то и мыслить себя можем только в качестве (и в числе) рабов божьих:
Всякая попытка быть не как все, малейший выход за установленные рамки — карается смертью. В какой-то мере это прогрессивно: рабы начинают в конце концов консолидироваться в класс — и противостоять господам как классу. Но это о классовой борьбе, а не о любви.
Поскольку человеческое бытие общественно, "любовь к бытию" и "любовь к другим" — это одно и то же. Просто любовь.
* * * Какой ни на есть, Толстой все же писатель — и само его ремесло заставляет его порой отодвинуть в сторону неуклюжую философию и уступить художественной правде. Сила искусства в том, что оно делает зрячими даже тех, кто этому усиленно сопротивляется. Но тут на подмогу спешит профессиональный философ Д. и любые попытки вправить идеалистический вывих решительно пресекает, выкручивая руки искусству искусственными интерпретациями...
* * * Любовь не "путь преодоления страха смерти" [57]. Любовь — преодоление жизни и смерти как таковых.
* * * Д. на каждом шагу подчеркивает противопоставленность человека "другим" — и поэтому, якобы, нужно "прорываться" к другим, а это "согласно Толстому дается только любовью". Не хотел бы я, чтобы ко мне кто-то вот так "прорывался"... И обретал "истинный смысл" своей жизни за мой счет. А дело-то в том, что человек изначально не противопоставлен другим; до осознания собственной индивидуальность ему еще предстоит дорасти — по мере становления этой самой индивидуальности. И далеко не все становятся и дорастают. Любовь в этом плане — как индикатор: зажглась — значит есть что-то разумное за душой. Но речь не идет о "прорыве" к другим — предстоит "прорваться" прежде всего к самому себе, стать разумным существом, а не умножать поголовье скота. И уметь принять на себя всю тяжесть и боль бытия, не перекладывая ответственности на других. Стать представителем всего человечества — и мира в целом.
* * * "Смерть Ивана Ильича" — типично толстовская вещь: корявый язык, назойливое морализаторство... Но все это можно простить ради нескольких крупиц озарения. Здесь Толстой родил гениальнейшую фразу, которая вполне могла бы считаться вершиной его творчества: "Впрочем, зачем же говорить, надо сделать". Всего на сорок лет позже Маркса — это не срок по историческим меркам.
Надо отдать должное Толстому — он и по жизни пытался что-то делать, не ограничиваясь словесными эскападами. Конечно, классовая ограниченность часто превращала действие в бесплодные метания, в фарс. Однако буржуазные литераторы еще долго не могли вырваться за рамки профессиональности, превращаясь в коммерсантов от искусства. Решительно порвать с рынком, как это сделал Толстой, В контексте повести принцип деятельной любви, к сожалению, не находит воплощения, остается умозрительной абстракцией. Слишком поздно пришло озарение, слишком оно зыбко и ограниченно, и последний жест Ивана Ильича напоминает ритуальный постриг русских царей — попытку купить царствие небесное в последний момент. Осознание вины — тоже немало. Но нет в нем смысла, если за ним не следует искупление — а это не единичный акт, а долгий, тяжелый, повседневный труд. В качестве исключения еще можно было бы принять высокую жертвенность — но Иван Ильич об этом подумать не успел.
* * * Конечно же, Д. не может принять художественной правды — ему нужно заменить ее суррогатом "нравственной философии", поправить Толстого там, где он начинает вести себя слишком уж по-человечески. Прежде всего, задвинуть подальше собственно искусство и вытащить на первый план откровенную искусственность. Понятно, что переживания умирающего в реальности далеки от унылого философствования, на которое обрекает Толстой своего Ивана Ильича. Но г-на Д. [60] "эта сцена потрясает своей внутренней достоверностью: здесь нет ничего надуманного". И чтобы, не дай бог, не поняли неправильно, надо приписать Толстому пошленькую житейскую "философию":
А толстовский почти покойник просто радуется смерти как концу страданий (неважно, своих или чужих). К перспективе продолжения в других Толстой в этой повести относится ехидно-иронически: первые страницы красочно выписывают, как честная компания восприняла известие о смерти Ивана Ильича. Оказывается, что никому нет ни малейшего дела до чужого исчезновения, и хочется скорее покончить с ритуальным действом, дабы с чистым сердцем возобновить суетное существование. Вся соль повести в том, что Иван Ильич (равно как и его близкие, и все прочие, и даже буфетный мужик Герасим, которым так восторгались последующие проповедники "живой жизни", вроде Вересаева) умер задолго до своей физической смерти, что он, по сути дела, и не жил вовсе. Не глупо ли воспринимать эту одушевленную пустоту как "дар человечеству, который не перестает быть даром оттого, что каждому человеку предстоит умереть"? Когда некто повязан только на "близких и любимых" — это не человек, это нечто, в лучшем случае, растительно-животное. Человек как разумное существо, как действующий дух, — изначально безграничен, ему мало и человечества в целом, ему важно слиться со всей вселенной (да и не с одной!). И живет человек — сам, а не в ком-то или в чем-то. Разве Сократа мы знаем только по его сварливой жене? Много ли читателю известно о родственниках Рабле, Мольера, Сервантеса? Беднягу Ницше родственники после смерти причесали под нациста, состряпав совершенно антиницшеанскую Волю к власти. "Близкие и любимые" — слащавая условность; на деле по-разному бывает. Сам Толстой, например, продолжался отнюдь не в жене и детях, а, скорее, вопреки им, — причем, парадоксальным образом, именно благодаря утверждению той самой буржуазности (примат закона), которую он презирал и осуждал.
* * * В главе о "ницшеанской интеллектуальной ориентации" — ни слова о Ницше. Если не считать высокомерного замечания, что Ницше "было чему поучиться"... у Достоевского! В шовинистическом угаре Д. сам себе противоречит, помещая своего литературного любимчика в одну команду с презренным швейцарском психом. Для порядку звякнув именами Шпенглера и Хайдеггера (мы, дескать, и о них наслышаны!), Д. ограничивается в дальнейшем лишь критикой Макса Вебера, которого с Ницще трудно перепутать даже в измененных состояниях сознания. При этом походя отождествляются "проблема смысла жизни, как ставит ее Толстой, и проблема нигилизма, как формулирует ее Достоевский" [63], которые, предположительно, "уходят своими истоками в одну и ту же народную традицию".
Длинная цитата — но иначе трудно подсветить дурно пахнущий букет маразма. Совершенно разные идеи свалены в одну кучу — все равно читатель западных философов не знает и жульничества не углядит.
Да, капитализм противопоставляет человека человеку, делает их сторонами сделки, а не партнерами по общению. Загнанные в клетку товарного обмена, люди формально тождественны, они перестают быть личностями. Но, ведь, в этом же состоит и суть всякой общинности: человек воспринимается не как самостоятельная всеобщность, а как представитель узкой группы, не по своей воле рожденный таким среди таких. Буржуазный индивидуализм последовательнее и прогрессивнее "нравственной философии". Он заставляет человека взглянуть в лицо грубой реальности, не прятаться в семейное гнездышко или пошлую мораль. Признать вину — даже если не в силах ее искупить. Именно то, что высмотрел Д. у Толстого, — чтобы тут же отречься. "Атомизация" общества — объективный процесс; нельзя повернуть историю вспять, к простым первобытным "радостям". Истинное для неандертальца — не всегда работает в эпоху глобализации и космической экспансии. Доводя до предела отчужденность и одиночество, капитализм готовит почву для общности более высокого уровня, сознательного единства свободных людей. От формального уравнивания всех членов общества в их отношении к собственности — один шаг до осознания собственного бытия как продукта деятельности, до стремления самим вершить свою судьбу, а не ждать "даров" свыше. Рыночное хозяйство превращает людей в товар; но хотя бы в пределах рынка человек пытается (учится) сознательно распоряжаться собой, вплоть до вопросов жизни и смерти. И мир для него — не ближайшее окружение, не родственники и друзья, а Вселенная целиком. Барин считает себя выразителем "нравственной установки народа" и упорно не желает признавать индивидуальное бытие холопов их собственностью — с вытекающей из этого (хотя бы формальной) неприкосновенностью, невозможностью прямого диктата свыше (то есть, придется поторговаться). Куда проще спускать сверху "моральные абсолюты" — и пусть они на них опираются. А кто не хочет — сдохнет. Понятно, что буржуазное барство ничем не радужнее: технология причесывания масс под какие угодно абсолюты отработана до мелочей. Роль носителя перекроенной на буржуазный лад народности берут на себя (узурпируют) мелкие чины из разорившихся и новых дворян, ядро прослойки, которая будет впоследствии (столь же самозвано) величать себя российской интеллигенцией. Но если самодержавие утверждает "народность" грубой силой — экономически ущербные недобуржуи вынуждены обратиться ко второму звену черносотенной триады, православию. Здесь корни "духовных" исканий Достоевского. Согласно Д. толстовщина с достоевщиной "уходят своими истоками в одну и ту же народную традицию". Насчет народности — см. выше; а вред нигилизма (под который запросто подводится любое бунтарство) Достоевский якобы усматривает "в потере нравственных абсолютов" — когда русская литература попадает в лапы опытному парикмахеру Д., всех поголовно причесывают на единый манер.
Кто против лакейской морали, не нуждается в абсолютах и не пытается примазаться одновременно к скоту и его погонщикам, — тот, как можно заключить, не русский, и не писатель.
Высший смысл — это предписания свыше. Абсолютная монархия, полновластие церкви. Кто против — нигилист, и пора в распыл. Важная оговорка: эти (безнравственные) абсолюты воспринимаются "в качестве таковых" только теми, кто связан с "этой" (безнравственной, подлой) жизнью; за ее границами, на воле, — никакой абсолютности вообще не может быть, и не нужна никакая вера. Судорожно цепляться за "веру в абсолютность своих абсолютов" — яркая характеристика законченного раба, который совершенно лишен убеждений и даже в абсолютность навязанных ему абсолютов может только верить.
* * * То, в чем раболепствующие теоретики усматривают утрату смысла жизни, — всего лишь указание на неабсолютность любых смыслов, необходимость искать новые направления деятельности, когда старые ориентиры изживают себя. Если все опирается на авторитет начальства, замена одного начальника другим воспринимается как личная трагедия. Когда человек свободен — никакая утрата (в том числе утрата жизни) ему не страшна.
* * * Разобщенность разобщенности рознь. С точки зрения барина — сплоченные коллективы удобнее, ими легко управлять (даже если это оппозиционная партия). Другой полюс того же самого — буржуазный индивидуализм, противопоставление одного рыночного агента другому, когда любое партнерство оказывается временным союзом, сделкой. Разумный человек вообще не задумывается о том, чтобы с кем-то объединяться и чему-то соответствовать; он действует согласно разуму, и даже быть выразителем всеобщего, полномочным представителем человечества, — слишком узко для него.
* * * Убежденность метафизика в абсолютности его (доморощенных) истин так и прет из полемики в Вебером по поводу отношения Толстого к "смыслу смерти":
Но разве сам Д. занимается чем другим? Его толкования Толстого и Достоевского бесконечно далеки от литературной реальности; более того, опираются они не на литературу как таковую, а на рассуждения вокруг литературы — на рефлексию авторов, которая, как это часто бывает, подменяет действительные (действенные!) мотивы другими, более приличествующими для предъявления начальству и широкой публике. Так, приписывая Достоевскому веру в абстрактные абсолюты, г-н философ не замечает, что практически все написанное Достоевским как раз и борется против абсолютизации чего бы то ни было, подчинения человека идее, мнению, обычаю... Именно Достоевский показывает, что чрезмерная убежденность или вера — источник народных страданий, и не может быть истинным то, что куплено такой ценой. В частности, этим привлекало Достоевского русское старчество — которое решительно выводит отношения людей за рамки религии, требует действенного решения человеческих проблем; попы прекрасно видят — но терпят ересь: они что угодно стерпят, если это делает рекламу — и позволяет больше наварить на (загнанных абсолютизмом в абсолюты) дураках. Даже любовь, превращенная в абсолют, поставленная над разумом, — превращается в разрушительную силу, уничтожает все вокруг и самое себя. У всех свои тараканы. Я прислушиваюсь к своим — и несколько сгущаю краски. Не полемики ради, а чтобы не увлечься проповедями, выращивать в себе убеждения, а не предрассудки (абсолюты). Быть иногда несерьезным — это обезоруживает, и конец войнам. Как не вспомнить Достоевского:
Напротив, Д. призывает придавать (якобы следуя Толстому) "истинную серьезность простейшим межчеловеческим отношениям" [68], когда "любая ошибка приобретает совершенно особый — принципиальный — смысл". Успокойтесь, дядя! Не надо запугивать нас и себя. Любые отношения — делают люди, и они же могут их переделать, не взирая ни на какие серьезности. А ошибемся — еще раз переделаем, и поправим себя сами, без царей, богов и вашей безнравственной философии.
* * * Вместо "живого, непосредственного отношении людей друг к другу" [66] — будем относиться друг к другу разумно, не ограничиваясь жизнью, и вовлекая все возможные опосредования. И не замыкаясь "в нравственной сфере", где, якобы, "только и возможна истинная любовь человека к человеку". Наша любовь — сразу во всех сферах, она так же бесконечна, как и мы сами, и ее незачем осмысливать, не надо к ней ничего домысливать.
* * *
Оставляя в стороне вопрос о том, насколько это вяжется с думами Толстого, заметим, что любое общение возможно лишь в совместном труде, а не так, чтобы труд ему только "способствовал". Не столь важно, каков характер труда — и требуется ли собирать толпу для пущей "непосредственности": общаться можно на любых расстояниях, через время, и даже вообще ничего не зная друг о друге. Не натыкаться друг на друга как молекулы в газе — а разумно выстраивать и перестраивать трудовой уклад, чтобы избавить его от навязчивой традиционности, сделать продуктом, а не спущенным сверху условием деятельности. Вот тут очень кстати о "добывании" и "творчестве" жизни, о "поддержании" и "воссоздании" [68]. Жизнь человека — не абстракт, присущий ему "по природе"; это не обстоятельства, в которые предстоит встраиваться. Жизнь надо делать — так, как мы считаем разумным: что-то пока оставлять — что-то пересоздавать, на другой основе. Но не ради жизни самой по себе — а сообразно текущим историческим задачам; такая включенность в деятельность и называется смыслом.
* * * И не надо опять про "слиянность простейших межчеловеческих отношений с нравственными отношениями"! Почему мы должны ограничивать человеческие отношений "простейшими" — и кто тут за критерий простоты? Вспоминая, что "нравственность" г-н Д. понимает на уровне вульгарной обывательской морали, можно не удивляться: вписываются в эту мораль только самые примитивные, полуживотные формы общения. Бриллиантом в куче навоза — идея любви как "утверждения одним человеком бытия другого человека" (хотя бы и опошленная чисто рыночным требованием "благодарности").
Нельзя быть нравственным, стремясь к нравственности. Нельзя любить, желая любви. Трудиться надо, творить, пробовать себя во всех сферах бытия — только это нравственно, и только так можно любить. Фундаментальная идея за метафизическим косноязычием — развертывание иерархии человеческих отношений в деятельности. Начиная с любви — мы вовлекаем в нее весь мир, становимся равными миру. Каждый развертывает иерархию по-своему, от своей вершины. Все это стороны одного и того же — поскольку любая из таких, единичных структур в итоге охватывает вообще все. В единстве всех возможных обращений — возникает иерархия человеческого общества, что Д., неуклюже называет "элементарной, клеточной структурой". Но кончается все равно за упокой: оказывается, всю это нужно только ради "сохранения в человечестве убежденности в осмысленности жизни, веры в нравственные абсолюты"! То есть, главный начальник "бдит и бодрствует" — и только он будет решать, кого и как мы должны любить.
* * * Про "безумие Ницше, также отвергнувшего любовь" — полная чушь. Называть так человека, который всем творчеством доказывал, что он и есть любовь, — это с очень большого бодуна... Ницше умел любить, он дал миру любовь нового типа — отношение истинно духовное, а не абстрактно супружеский долг. За это его ненавидела жена (буржуазно недалекая и неспособная любить) — и отомстила после его смерти.
* * * Упрекая Вебера в неспособность "понять перспективу сохранения нравственной народной субстанции", Д. проповедует обыкновенную стадность, выставляя народ не вершителем истории, а просто быдлом. Оказывается, приветствовать научно-технический прогресс — это "парализовать нравственные искания". И то верно! — пусть рабы сидят в дерьме и едят дерьмо. Под это всячески стараются причесать буржуазную науку: не помогать людям, не менять радикально условия бытия, а только наваривать капитал на чужих бедах. Конечно, мало разума в том, чтобы бросаться в другую крайность и вместо вылизывания задницы начальственному абсолюту рисовать
Но тупость Д. превосходит все пределы, и он вопит про конец всему:
Чушь несусветная. Приписываемая Веберу позиция лишь продолжает и развивает линию абсолютизма: когда абсолютов много — каждый из них не перестает быть абсолютом; это не борьба с верой, а всего лишь веротерпимость (чего одержимый идеей самодержавия, православия и народности Д. принять, конечно же, не может). Именно жизнь без абсолютов, изгнание царей и богов, превращение небес в банальный ближний космос — вот настоящая любовь, свобода; именно в этом пафос гуманистической философии (или, скорее, поэзии) Ницше. Это не "нигилизм" — это утверждение человека разумного, творца вселенной, у которого никто не сможет отнять любовь.
* * * Д. изобретает какую-то "психологику" [73]... В одной куче совершенно разные вещи: животное (психика) и разумное (эстетика, логика, этика). Что-то не в порядке у Д. с психикой — или с логикой?
* * * Пушкинское переложение анекдота о Моцарте и Сальери, конечно же, навеяно ходячими теориями, модным философствованием. Похоже, литературный эксперимент не удался: слишком прямолинейно, просто лубок. Так оно всегда и бывает: когда автор заранее знает, что он хочет поведать миру, — он перестает делать искусство и начинает назойливо поучать. Маленькие трагедии не нравились и самому Пушкину — но к тому времени он уже стал коммерческим писателем и был вынужден творить на продажу. В последующих поколениях пьесы всплывали, в основном, на волнах диссидентства — не как утверждение разумных начал, а в качестве абстрактного протеста; абстрактность и пустота образов тому очень способствуют. Но здесь мы обсуждаем не Пушкина, а современных буквоплетов. Согласно Д., "Сальери хочет утвердить свою собственную правду". Тут есть два очень разных варианта: "собственное" мы понимаем либо как как самостоятельно найденное, выстраданное, — либо только свое, как собственность. В первом случае человек вправе поступать как считает нужным — без оглядки на то, как к этому отнесутся другие и он сам. Второй, рыночный вариант — всего лишь конкуренция, и эта тенденция утверждается всем ходом развития капитализма. Пушкин (поданный под соусом Д.) не замечает ни духовных поисков Сальери — ни трагичности мира, в котором человеку так часто приходится действовать вопреки человеческому в себе. Для Д., Сальери просто псих, "нигилист" — чего ради надо было бунтовать? Сверху спустили разнарядку: этих в гении, этих в отстой... Вот и ликуйте. Не надо против начальства. Больше всего Д. возмущает "нечто вроде мародерства по отношению к богу, им же самим и признанному мертвым"; где логика? — если бога нет, так нет и "мародерства, а есть попытка человека взять ответственность за судьбы мира в свои руки — не спихивая ни на кого.
Бунтовщик! На виселицу его! — в кандалы! — в Сибирь! Сам того не замечая, Д. выбалтывает и главную ошибку вымышленного персонажа: речь об установлении "принципов всеобщего законодательства" (слова Канта!) как основы этики — то есть об утверждении столь милых сердцу Д. абсолютов. А если есть хоть один абсолют — разуму пора искать другое жилье (о чем жестко — иногда слишком жестко! — сказано у Достоевского). Заметим, что Д. вовсе не против убийств — он вполне согласился бы с убийством на дуэли (и значит, Пушкина убили совершенно законно, по всем правилам); тем более не оставляет сомнений право начальства казнить и миловать. Но тут случай особый: человек заявляет, что никакие правила не вечны, и люди могут (и должны!) их менять. Просто суперкрамола!
Метафизика без намордника. Почему всех надо выстраивать на одной вертикали? Есть тысячи других вариантов. У Д. типично классовый менталитет: отношение к другому мыслимо только в разрезе господства и подчинения, и либо надо признать господина и повиноваться ему — либо подчинить другого себе, поиграть в местного князька.
Снова о том же: либо вознестись над миром — либо покориться ему. Другой постановка вопроса Д. не знает. Разумный человек делает то, что считает важным на данный момент — мнение других его не интересует. Гений или нет — какая разница? Важно, что ты делаешь, а не как это назовут. Разум — не оправдание, а движущая сила. В качестве боковой ветви: покорность всегда означает и безразличие к формам "небытия" (это вовсе не субъективное качество, как полагает Д.!); как только мы предоставили кому-то право вершить наши судьбы — мы всего лишь рабы, материал для обработки, и придавать нам форму будет другой.
* * * Человек может ошибаться. Но не изменять себе, не отдавать себя на чей угодно суд — не прятаться за спинами, не сливаться с толпой. Нравственность несовместима с совестью.
Назвали человека злодеем — и он сразу хвост поджал? Нет уж! Поучитесь у Ницше (и у Маркса, и у Ленина): взялся за гуж — не говори, что не дюж. Идти до конца — пока остается чувство разумности. Когда пора остановится и перейти к другому — разум подскажет. Только упрямство, застаивание в изжившем себя, в абсолютах, — вот подлость, ниже которой — лишь отречение, покаяние (не для виду, а в душе). Выдуманный Сальери злодей не потому, что он убил. Его беда в том, что он не продолжал действовать в соответствии с убеждениями, а отступился от них, испугался "грязной" работы, — и тем самым обнаружил в себе подлого филистера, перешел на точку зрения обывательской морали. Это безнравственно — и значит, не было идейности и прежде, а только казуистика, уступка (снова рабство!) абсолютам. Точно так же Иуда: в традиционной интерпретации он вернул сребренники и удавился — изменил себе. Булгаковская трактовка интереснее — она показывает, как людей силой вынуждают отрекаться, создают видимость отречения (вспомним, конечно же, про Галилея!) — для устрашения рабов и для создания иллюзии безусловной правоты властей (которую усиленно пропагандирует Д.). Признание неправоты не предполагает отказа от уже содеянного и тем более от будущего труда. Наши ошибки — и ошибками-то назвать возможно лишь с позиций классового сознания; это лишь попытки двигаться вперед, не завязнуть в "абсолютном" болоте. Не получится одним способом — попробуем другие. А Д. твердит об "осознании Сальери низкой, злодейской природы содеянного" — и о "пробуждении совести". Не бывает низости вообще, абстрактного зла: это классовые понятия, позиция вполне определенных общественных кругов. Низкое с точки зрения буржуя — оказывается возвышенным и благородным у пролетария; наоборот, буржуи считают достойным уважения то, за что их следовало бы презирать. Поэтому говорить приходится не о "пробуждении", а о наваждении совести, о ее абсолютизации, фетишизации, — подчинении диктату властей. Разуму совесть не нужна — у него есть убеждения. Не абсолютные, данные раз и навсегда, — а подвижные, развивающиеся вместе с обществом и личностью.
* * * Снова о психованной логике (приписываемой Пушкину). Вместо исторических реалий, исследования всеобщности наших деяний, — мистические излияния по поводу
Ладно, допустим "сатанизм" оскорбляет ваши христианнейшие души. Но как по-вашему должны поступать действительно тоскующие и возмущенные? Где примеры? Без этого подвисают в пустоте ваши "психологические эксперименты" — они не ведут вообще никуда, и это похуже самого радикального нигилизма. Нетрудно догадаться, что в искусственно нагнетаемую пустоту быстренько сольются вполне определенные настроения: лакейская преданность "богоданной" власти, требующей ни в коем случае не "самообожествляться" — не отнимать у экспроприаторов ни уже награбленное, ни право грабить и дальше. Разумному человеку незачем гордиться собой (или кем-то еще) — он просто живет сообразно разуму. Душители свободы (в лице г-на Д.) называют это гордыней. Свободный человек не рвется к власти — но и не позволяет властвовать над собой; он никем не "распоряжается" — но Д. просто не в силах такое вообразить (вспомните Коммунистический манифест — про вопли обывателей по поводу "общности жен"). Пушкинский Сальери — далек от зависти: его занимают вопросы совсем другого порядка, за гранью личных амбиций (именно обезличивание — источник губительных абсолютов, уподобление власти, а не борьба с ней). Исторический Сальери — великий музыкант и педагог, которого мышиная возня вокруг приоритетов и рангов вообще не интересует: ему бы успеть (памятуя о судьбе Моцарта) дописать свой Реквием (и по счастью успел). И дело не в "трагичности самочувствия" — а в драмах общества, на каждом шагу путающегося в классовых противоречиях, противопоставляющего одних другим — и отчуждающего человека от самого себя.
* * * Метафизический рассудок привык оперировать лишь вечным и неизменным, якобы априорным и абсолютным. Поставили рабочего за станок — и пусть всю жизнь тачает одну деталь. Даже если эту деталь уже не вставить ни в одну из современных машин. Тем более возмущает Д. прагматичный политик,
Тут даже не надо лезть во французскую литературу: вспомните историю борьбы Ленина с отзовистами (во главе с "эмпириомонистом"), а потом и разворот от "военного коммунизма" к нэпу.
Две крайности: абсолют совести — и абсолют убийства. А по жизни, одна совесть другой рознь — и убийство убийству тоже. И дело тут вовсе не в "праве" — а в объективной необходимости, которую разумный человек призван превратить в необходимость историческую. История не движется сама по себе — ее делают люди, или, с другого ракурса, она себя делает руками людей. Есть реальная расстановка классовых сил — и совесть одних оказывается бессовестностью для других. Если что-то должно быть сделано — найдутся исполнители. Вопрос лишь в том, кто и кому будет диктовать свою волю. Господа вроде Д. ратуют за православие (абсолютную мораль) и за царя-батюшку (абсолютного монарха) — и называют это народностью. Но даже очень предвзятый взгляд обнаруживает в истории кровавые страницы, писанные под диктовку (или диктат) "законных" властителей и "истинной" веры. С точки зрения Д. — это нормально, это их право. Отрицать правоту верхов и переделывать мир — не имеете права.
* * * Как только идея превращена в абсолют и возведена в ранг ценности в себе — человечество неизбежно делится на классы по отношению к этой идее. Пока Раскольников занимается арифметикой ("одна смерть и сто тысяч жизней взамен") — тут нет этических проблем (если не учитывать, конечно, нормальное для разумного человека стремление по возможности избежать жертв, и заниматься не выдранным из истории примером, а изменением хода истории в целом). Этика против, когда людей начинают делить "обыкновенных" и "необыкновенных": вся соль в том, что делают историю самые обыкновенные люди, — и не для того, чтобы уверовать в собственную исключительность, а следуя голосу разума. Я пишу эти строки не потому, что я гений, — а желая разобраться в происходящем и составить себе целостную (то есть, разумную, человеческую) картину прошлого, настоящего и будущего; тогда станет ясно, что предстоит делать сейчас, в ближайшей и отдаленной перспективе. Что-то измениться в мире — картину придется менять, ничего не поделаешь. Какое может быть "раскаяние"? Какая "совесть"? А, вот, когда лезут в наполеоны и добиваются особых прав — это чисто классовая мотивация, и ничего человеческого в этом нет.
* * *
В переводе: ханжество. Вместо совести — всего лишь интеллектуальная "совестливость". Если у вас есть разумная цель — действуйте, и незачем оправдывать и оправдываться. Типичная черта российской (и не только) интеллигенции — интеллектуальный мазохизм: не согрешишь — не покаешься. Нагадить даже не для выгоды — а чтобы поиметь повод публично (а иначе не интересно!) бить себя кулаком в грудь и вопить: я дурной! Обязательно исповедаться, вывернуть душу и высыпать мусор на окружающих, выставить грязное белье на всеобщее обозрение. В отличие от этого, подленького существования, всегда готового спрятаться в карман царственного благодетеля (спонсора), Ницше — сама искренность, честность, одухотворенность и неподкупность. Он ни от кого ничего не требует — даже от себя; он сверхчеловек не потому, что он "выше" людей, а потому что он далек от мерзости сравнений (выше, ниже, хуже, лучше...); ницшевский человек — существо заведомо несравненное, уникальное и по-своему единственное — это не правило, не закон, не пример, а всего лишь образец, демонстрация возможности, равно доступной всем. Только такие люди способны любить.
* * *
А иначе невозможно! Человек узнает, кто он — только через отношение к другим; по сути, он и есть это отношение! Остается только вспомнить, что все это не абстрактная игра в абсолюты, а деятельность, и дух человека — не в нем: он одухотворяет мир.
* * * Д. утверждает, что "самый общий вопрос нравственной философии" есть вопрос
Более узкую философию трудно себе представить. Разум не ищет смысл, он сам создает смыслы — и вовсе не абсолютные, а в каждом конкретном отношении, в деятельности. И уж тем более свободному человеку не нужны никакие "горизонты" — он всегда может снять само это понятие, неограниченно раздвигая себя в других измерениях. Человеческая жизнь возможно лишь там, где есть человек — который не сводится к одной только жизни, ибо его задача — перестроить весь мир, в прошлом, настоящем и будущем. Философия как поиск единства мира — средство избавления от навязанных классовым обществом проблем. Как только кто-либо пытается "рассмотреть каждую из этих проблем в отдельности" — он теряет перспективу, всеобщую связь, и любая проблема становится неразрешимой; псевдорешение — абсолют, произвол одних и рабство других: это отказ от решения, передача в вышестоящие инстанции (которым якобы сверху виднее). Уберите эту классовую вертикаль — и само понятие проблемы исчезает, а остается только совместная деятельность и общение, труд и любовь.
* * * Подзаголовок второго раздела книги: "Достоевский против Ницше и Сартра". Идиотизм с самого начала. Почему обязательно одни должны быть против других? Что-то есть у Достоевского, что-то у Ницше; давайте соберем все ценное до кучи и добавим по возможности от себя. Натравливая людей друг на друга, Д. выказывает себя верным сатрапом начальствующих кругов, всегда готовых поссорить бунтовщиков меж собой, чтобы перебить поодиночке.
* * * Поскольку у Д. критика Ницше целиком зиждется на "посмертно опубликованных материалах и фрагментах" — можно, в принципе и не читать: посмертные записки составляли убежденные ненавистники и клеветники (вроде Д.) — а самого Ницше там практически нет. Смешно, когда один фантом критикует другие фантомы. Д. вынужден признать:
Но даже изуродованный Ницше — исполин в стране карликов, который не возвышается над ними, а пытается с ними на равных разговаривать! Мысль Ницше об историзме человеческих мотивов и оценок, об иерархичности и переплетении линий в истории, — это гениально. Сторонник абсолютов — вообще не врубается и предлагает считать это оправданием бессовестности и преступлений. Разумеется, совесть и убийство Д, трактует как абсолютные, для всех одинаковые и на все времена. Даже историчность классовой морали от Д. начисто ускользает, и он все эпохи подгоняет под свой буржуазно-монархический идеал. Позиция типичная для раскритикованной Д. западной философии; тогда ничего кроме общих мест на выходе ожидать и не приходится.
* * * До глубин метафизической души Д., возмущен исторически точным указанием Ницше: восставших против "общественного порядка" не "наказывают", а подавляют. Типичная позиция типичного барина: учить мерзавцев розгами (а также виселицей, костром и атомной бомбой) — для их же блага. Разумеется, в историческом контексте само понятие преступления может сильно меняться: преступники одной эпохи предстают героями для другой, и наоборот. Точно так же, преступность — лишь с точки зрения класса: господствующий класс узурпирует право решать, что все обязаны считать преступлением, — это абсолют преступности, "горизонт" для Д.
* * *
Что здесь от Ницше, сказать трудно; однако полагать, что тем самым Ницше оправдывает преступника и "прямо встает на точку зрения этого последнего" — это клевета. Обращаем внимание: четко разведены две стороны, историческая необходимость — и субъективные качества. История вовсе не обязательно выбирает для великих деяний киношно представительных типов, рыцарей без страха и упрека; иногда великое делают (даже против своей воли) отъявленные мерзавцы. Отношение к человеку и отношение к его поступкам — не одно и то же. По жизни постоянно приходится иметь дело с людьми (мягко выражаясь) неприятными — но как партнеры по работе они просто незаменимы. Поэтому в преступлении надо различать его общественное наполнение, соответствие ему непосредственных исполнителей — и критерии оценки (в том числе этической) у разных общественных групп, в разное время.
* * *
Опять же, неясно, что здесь от Ницше, а что от умелых подтасовщиков. В любом случае, последняя фраза точна — и требует комментариев лишь начало: можно подумать, что Ницше скатывается на неисторичную точку зрения и признает абсолютность наказания и вины. Сомнительно. Добавить префикс: в общем случае, — и тогда верно: в какие-то эпохи одно, в другие — другое. При капитализме вообще все становится меновой стоимостью — и закон превращается в прейскурант. Тенденцию уловил великий Гегель. Однако увязывать бытующие правовые формы с какой-то вневременной моралью — это против логики, в интересах классового заказчика. Откровенна клевета Д.:
Да, поэт ненавидел посредственность — но не возводил вывихи в абсолют; история его борьбы с болезнью (вместо обожествления ее) — ярчайшее тому свидетельство.
* * *
Здесь есть глубокое рациональное зерно — которого Д., конечно же, замечать не желает. Еще раз: великие дела делают обыкновенные люди, а движение прогресса в классовом обществе почти всегда приобретает уродливые формы. Очень точно у (псевдо-)Ницше: всякий поступок есть одновременно и проступок. Культурная роль одно, ее проекции на индивидуальное и групповое сознание — совсем другое. Не путать мотивы с мотивировками, направления исторического развития — со способами участия в нем отдельных лиц. Попытка судить о поведении людей с позиций абстрактной (то есть отчужденной от них, враждебной им) морали — все равно что лечить все болезни одной таблеткой: кто выживет — тот и праведник...
* * * Д. упрекает Ницше в некорректности интерпретаций — чья бы корова мычала! Возможно, Ницше не знаток русской литературы — однако критикуют его не фактические ошибки, а за самостоятельность мышления, несоответствие пошлым стандартам, насквозь пропитанным идеализмом и метафизикой.
* * *
Только так! Неблаговидные поступки сами по себе — меньшее зло, чем их использование в целях промывания мозгов, для утверждения прав господ давить ростки свободомыслия. В обстановке насильственного насаждения раболепствующей морали и казарменной муштры — даже заведомо глупое злодейство объективно оказывается вызовом мерзости общества, насаждающего культ силы; неразумные выходки рабов — другая сторона классового насилия. Ясно, что убийство по пьяни или дикое изнасилование — никак не подвести под протестные настроения: это просто животность, и необходимо изолировать опасных животных от общества, предупредить рецидивы (а в крайних случаях уничтожить). Однако недоразвитость, животное состояние масс — целиком и полностью вина властей, поэтому принимать меры надо не только на уровне отдельного "преступника", но и гораздо выше: решительно ломать выстроенную ими систему "абсолютов", и вместо подлости, покорности и страха вырабатывать иные, культурные нормы поведения. Одно дело говорить человеку, что он подлец, потому что ведет себя подло; совсем другое — считать подлостью лишь отступление от "норм поведения" и несоответствие барским "абсолютам". Если то же самое делают с ведома господ и в их интересах — все нормально, это вовсе не преступление. Когда тысячи евреев уничтожают в немецких лагерях — это холокост, великая трагедия. Когда Израиль уничтожает и сгоняет с мест миллионы арабов — это в порядке вещей, геноцид в законе. Жестокие разборки в подворотнях — это криминал; издевательства тюремщиков, пытки в качестве метода дознания — абсолютно правильно. Изнасиловать в подъезде — преступление; групповое изнасилование заключенного (да еще снятое на камеру) — мелочь, воспитательное воздействие. Вот такую лицемерную мораль отстаивает г-н Д. — и против такой морали протестует Ницше. С точки зрения борца за "абсолюты", инсценированный расстрел Достоевского — полностью соответствует "нормам", прямо-таки верх гуманности. С человеческой (а не людоедской) точки зрения — это жестокое издевательство, слом психики, травма на всю оставшуюся жизнь; уж лучше бы в самом деле расстреляли. Судья, выносящий приговор именем закона — намного подлее тех, кого он собирается карать, даже если отъявленные мерзавцы вполне заслуживают кары. Делать гадости — мерзко; делать гадости из-за спины очередного "абсолюта" — мерзко в бесконечной степени. Буржуазия всего мира с пеной у рта борется за повсеместное насаждение принципов "правового государства" (часто силой оружия подавляя массовые восстания против импортных "абсолютов"). Беда советской власти в частности и в том, что буржуазную законность целиком и полностью пересадили в культуру, призванную строить бесклассовое общество, уничтожать абсолюты и нормы — опираясь на революционную сознательность. Коготок увяз — всей птичке пропасть.
* * * Дальше у Д. начинается совсем уж беспардонная подтасовка идей и истории. Разбивший христианские абсолюты ренессанс Д. называет эпохой "великих" преступников и гнуснейших преступлений [94], обществом, в котором нет никакой морали, когда никаким мерзавцам
Можно подумать, что в классовом обществе когда-нибудь было иначе! Средневековые теоретики и практики — отнюдь не ангелочки; костры пылали по всей Европе сотни лет после Возрождения. Каким образом насаждали абсолютизм европейские монархи — всем (кроме г-на Д.) хорошо известно. Варфоломеевская ночь — заурядный эпизод. Только очень наивный (или подлый) писатель будет настаивать, что в современном "правовом государстве" хоть что-нибудь изменилось: пираты (и прочие разбойники) переходили на государственную службу и становились потомственными аристократами; казнокрад и спекулянт пристраивались на теплые местечки, покупали имения и рабов; разорение колоний — источник несметных богатств самых почтенных семей. Соединенные Штаты Америки фантастически наживались на мировых войнах — и до сих пор держат в рабстве весь мир. История человечества на каждом шагу тычет в глаза упрямый факт: понятие "преступление" — не абсолют, оно меняется от эпохи к эпохе, от класса к классу. Деяние становится преступлением в определенных исторических условиях — в контексте определенной культуры, по отношению к правовой системе, установленной господствующим классом. Не бывает ни "абсолютного законодательства" ни "абсолютной морали". Смена шкалы, переоценка ценностей — зависит от расклада экономических и политических сил, и что считалось преступлением вчера — сегодня уже знак доблести (или предприимчивости). Легко видеть, что минус меняется на плюс, когда череда злодеяний приводит исполнителя в ряды господ: теперь его действия надо мерить другой меркой. Бывает и наоборот: съеденные конкурентами становятся козлами отпущения.
* * * Ницше приписывают изобретение идеи "тип преступника", который, якобы, есть "сильный человек, превращенный в больного человека".
Насчет прав сильного — это явно с больной головы на (относительно) здоровую: именно Д. утверждает право господ диктовать волю рабам, жестоко подавляя любые выступления против барских "абсолютов". Даже в этом, явно не авторском переложении — светится совсем другая идея: сильный человек = дикий человек! — и он утверждает свои "права" грубой силой, поскольку до разума он пока не дорос. Можно ли точнее охарактеризовать процессы "первоначального накопления", источник всех без исключения "абсолютов"? Одни дикари подчиняют себе других и принуждают следовать правилам победителей. Так рождается цивилизация — вместе с ее апологетами, вроде г-на Д.
* * *
И это правильно! Дикарю нечего делать среди культурных людей. Его поведение заведомо антикультурно, преступно. Однако это относится только к таким культурам, где возможно противопоставление человека обществу, где культурность превращена в абсолют — и предписана членам общества, а не выращена в них в соответствии с гением каждого. Ясно, что такое (классовое) общество может представлять лить зачатки разумности, и подлежит переработке в нечто иное — где просто нет "естественно выросших", дикарей; и даже если забредет ненароком из другой вселенной — он сразу вольется в культуру, займет в ней вполне достойное место. Разумеется, речь не о животных, о людях. И о разумности, а не животности в каждом из нас.
* * *
Очень важное уточнение: "как таковое". Если мы нарушаем правила сознательно, имея в виду их нарушить, — это вовсе не то же самое, что нагадить вокруг себя по животной привычке. В первом случае — поиск иных (возможно, более разумных) правил, отказ от абсолютов; даже если не удалось найти — сохраняется возможность развития. Во втором — просто дикость, недоразвитость. А следовательно, подчинение власти абсолютов, вечное рабство. Проповедников абсолютизма — давить надо! Это худшее из всего, что водится в классовой культуре.
Как не согласиться с (даже выдуманным) Ницше! С одной поправкой: придет время, когда не станет самого деления на "высшее" и "низшее", "плохое" и "хорошее", — когда люди будут просто людьми, и даже отказ от абсолютов не превратится в абсолют.
* * *
Апофеоз подлой клеветы! Ницше меньше всего говорит о физиологии, речь всегда об уровне культуры — о мере разума. Дикость тупого бугая, дикость записного интеллигента (вроде Д.) — это все равно дикость; она не зависит от органики, и нет никаких "врожденных" склонностей. Дикарем человека делает дикое общество, в котором культурность далеко не всем доступна; в этом плане ограниченность "спустившегося с гор" ничем не отличается от ограниченности "просветителя": они по-разному уроды — но все равно будут уродски проявлять себя "в области практически жизненной или в заоблачных высях интеллектуального творчества". Не бывает преступников "по природе" — есть обделенные разумом (отчужденные от разумности), которых ловко используют власть предержащие, чтобы потом походя избавиться, как от орудий их "абсолютного" преступления.
* * * Нельзя судить о личности по черновикам. Тем более, сознательно препарированным в угоду подлой идеологии. Фрагменты рукописей приобретают дух подлинности лишь в контексте того, что реально удалось совершить. Неопубликованный Ницше — возможен только в контексте прижизненных публикаций. Когда я читаю книгу и рисую каракули на полях — это, конечно же, не готовый продукт, а лишь наметки тем, зарубки на память. Карандашиком особо не разгуляешься! — пардоньте, мосье Ферма. 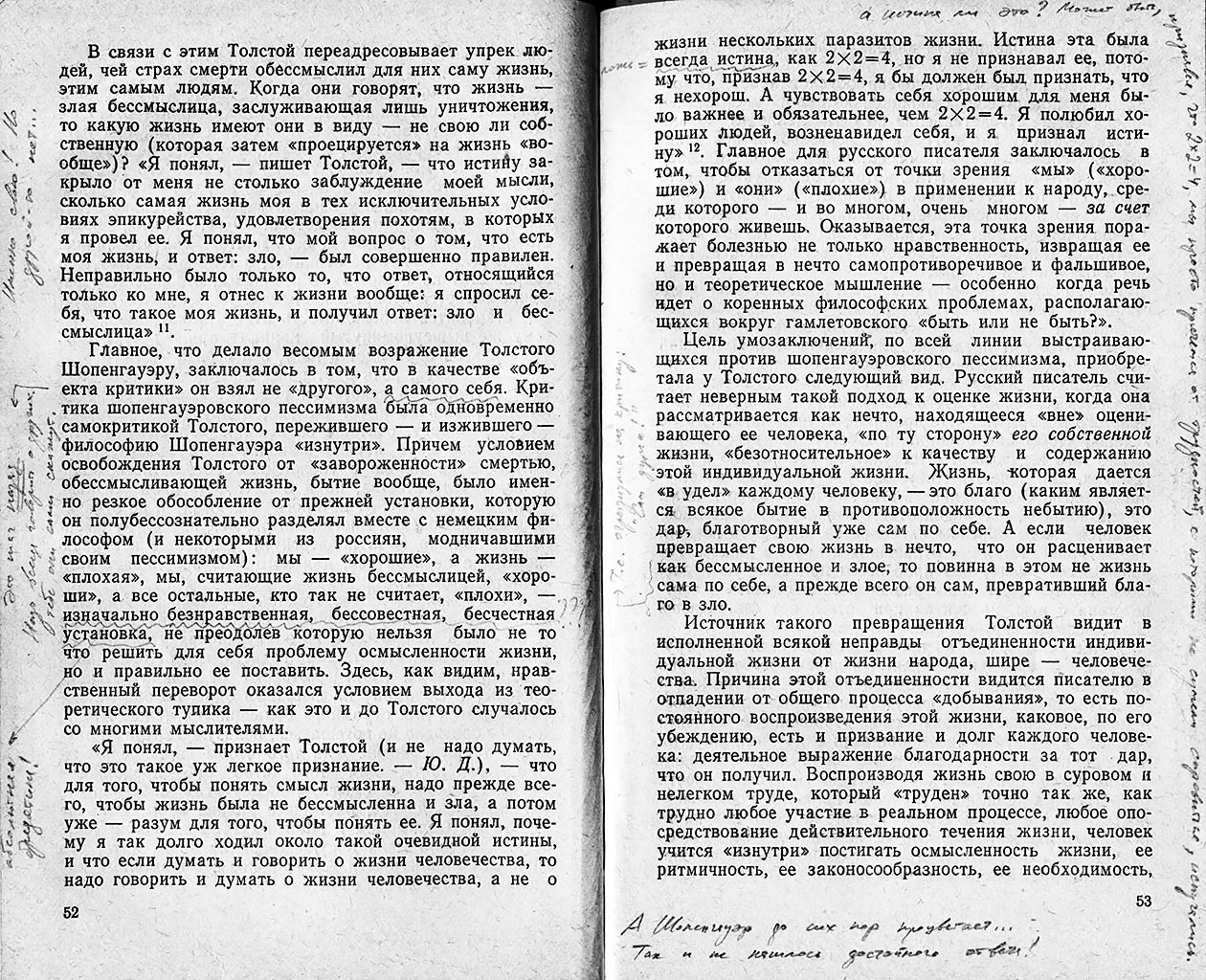 Даже восстановленные по этим каракулям развернутые комментарии — лишь черновики, процесс осмысления, а не его результат. Если удается сказать напрямик, своими словами — слова придется заменить другими, снять неприбранную корявость. Только, вот, дойдет ли до настоящего дела — гарантии ноль. Все под богом ходим (то есть, под абсолютами), и могут запросто взять за шкирку, да отправить по этапу — вместе с Ницше и Марксом. Палачи проинструктированы — для этого власти и содержат господ вроде Д.
* * *
Очередной ушат помоев на голову поэта... Ничего кроме пошлостей Д. на следующих нескольких страницах не изрекает. Кухонная философия, житейское резонерство. У Ницше — яркая аналогия, метафора: душевная подлость — это болезнь. Изображающий из себя философа дикарь Д. все понимает буквально, "физиологически". Когда человек отрекается от себя — это не его личная слабость, это болезнь общества, которое намеренно производит душевнобольных — ими легче командовать, и уж у властей-то никаких угрызений совести: они же больные, недееспособные! Разумный человек — думает о том, что следует сделать сейчас, в данных обстоятельствах, — независимо от того, какова его роль в том, что они сложились именно так. А бить себя в грудь, "ревмя-реветь" и размазывать слезы по морде — имитация прозрения, игра на публику. Вроде юмора: похихикали над тигром — вообразили себя вне опасности; а он все равно съест, и на жалкие потуги внимания не обратит.
* * * Типичный прием буржуазной пропаганды — приписать свои намерения идеологическим оппонентам и выставить их уродливыми монстрами (или поднять на смех). Действительно, если отделать барскую мораль от узурпированного господами права вершить судьбы людей, — получается жестокая нелепость; но сказать так про барина — не по правилам; зато отыгрываться на беззащитных — абсолютно нормально. Мерзавчик Д. всю дорогу вылизывает задницы сильным мира сего — и ненавидит бунтующую чернь; однако в его писаниях все вывернуто наизнанку: поэта любви Ницше обвиняют в насаждении "морали господ" — и самим себе господа приписывают (конечно же, абсолютную) этику любви.
Все поставлено с ног на уши: вина, совесть, раскаяние — не имеют к человечности ни малейшего отношения: это проявления животности в человеке — и возникают они отнюдь не стихийно, а намеренно производятся и воспроизводятся господствующим классом ради сохранения экономического господства, возможности и дальше ездить на шеях оболваненных и удерживаемых в темноте рабов. Инструментом духовного насилия как раз и служит классовая мораль, которую господа бесстыдно выдают за обязательные для всех и всегда (абсолютные) общечеловеческие "нормы и правила". Нам навязывают мораль, якобы "возникающую из элементарных нравственных побуждений человека"; здесь каждое слово — гнусная ложь: вместо живых (и очень разных) людей — абстрактный "человек", руководствующийся не разумом, а "побуждениями", которые безнравственны в силу своей неразумности, а элементарность — это дикость, неразвитость, примитивность, — которую объявляют вечной и неизменной основой всего (и не вздумайте придумывать другие элементы!); наконец, "возникновение" морали из этого нагромождения абсолютов — попытка замазать ее истинное происхождение и подлые цели. Понятно, что певцу свободы Ницше мораль — вцепившиеся в горло хищные клешни душителей свободных песен. Но он горд — он не пытается сбежать от насильников, и готов бороться до конца. Силы неравны — и до сих пор господствующая мораль душит миллионы светлых душ, покруче фосгена и газовых камер (одной из которых и стала книга г-на Д.).
* * * Сопоставлять Ницще и Достоевского, конечно же, возможно — если не ограничиваться только этим, а вписать сходство и различия в более широкий исторический контекст, представить и того, и другого как культурную необходимость, веление времени. Для метафизика Д. — задача совершенно немыслимая. Да ему оно и не нужно: ему платят за способность переврать, опошлить искания гениев, и сталкивать лбами выдуманных карликов — на потеху ярмарочной публике. Вырванные из эпохи, превращенные в абстрактные символы (абсолюты), — они стали пустыми именами, технологией манипуляции, машиной для промывки мозгов. Здесь нечего читать — и без комментариев.
* * *
Можно только воскликнуть: браво, Ницше! Даже в опошленном, изуродованном переложении он гениален — и бьет в самую суть. Чего не хватает? Обращения к экономической основе — к борьбе классов. Чтобы не ограничиваться субъективной оценкой, постановкой задачи, — но указать пути преодоления общественных уродств, перехода к таким отношениям между (экономически и духовно) свободными людьми, когда никому и в голову не придет изобретать и навязывать другим какие-то "абсолюты", — когда у общества уже не будет "отбросов". Только в комплекте с Марксом Ницще, наконец-то, становится самим собой, и его интуиция стоит на твердой материи, а не брошена на волю ветров; точно так же, Марксу очень не хватает поэтики Ницше (и Баадера), стремления изменить не только экономику — но и людей, пересоздать, привести к разуму человеческую духовность (без чего экономические преобразования просто бессмысленны).
* * * Абсолютист Д. не понимает, как Ницше может говорить об одном и том же то со знаком минус, то со знаком плюс. То, что каждый человек, каждая культура, лишь представляет нечто единое с разных сторон (и потому односторонне), — выше метафизического разумения. Ницше говорит не об эмпирически данном — ему важно увидеть как в каждом ростки свободы отсекают все новые площади от болота абсолютов.
* * * Еще раз: во времена Достоевского всякий честный человек должен был неизбежно стать "преступником" (в глазах властей), борцом против феодально-буржуазного абсолютизма. В этом Достоевский и Ницше едины. Но обоим недоставало понимания, с чем, собственно, они борются — и куда хотели бы человечество пригласить.
* * * Ницше отвергает христианскую любовь (во всех ее ипостасях —договориться о которых христиане так и не смогли, и не смогут). Для апологета христианства Д. это равносильно отрицанию любви вообще. Ницшевскую характеристику поповщины Д. суммирует так [119]:
Это великолепно! Именно такое блаженное непротивление господа мечтают вбить в души рабов — чтобы даже близко не помышляли бунтовать. Именно эту "любовь" проповедуют Д. и прочие продажные крючкотворы. Отработанный за тысячелетия трюк: словам придают прямо противоположное значение, и называют подлую бездуховность духовностью, безнравственность — нравственностью, коммерцию — благотворительностью, ненависть и страх — любовью (разумеется, к хозяину). Человеческая любовь — зовет к свободе; напротив, лакейское подобострастие — отказ от себя, помутнение разума.
Такова она и есть — как "этический принцип". Человеческая, свободная любовь — вне этики; более того, именно любовь порождает идею нравственности — в противоположность диктату морали. По Энгельсу, это важнейший принцип, синтез всех остальных черт любви [21, 80].
Бурные аплодисменты и немой восторг. Ницше прав: нравственная деградация любителей абсолютов постепенно принимает форму
Для Д. (и прочих борцов за самодержавие, православие и народность) высший идеал — фигура юродивого, упивающегося собственной ничтожностью, нарочито (публично) втаптывающего человеческое достоинство в грязь. Нет никакой правды с большой буквы — правда у каждого своя, в этом суть цивилизации, классового общества (а в мире свободы само понятие правды сдают в пыльный архив). Конечно, во времена Ницше еще не было материалистической психологии (а сегодня ее уже нет) — и почти невозможно найти подходящие слова (тем более, когда язык намеренно опошлен, выхолощен, насквозь пропитан поповщиной и вонючей моралью). Тем больше мы уважаем Ницше за мужество сказать главное — даже зная, что переврут и поймут не так.
* * *
При всей вульгарности недопонимания — заметна суть: религия и мораль — две стороны одного и того же, инструменты классового господства.
Правильно! Поскольку и то, и другое — мораль, уничтожать надо обе, строить мир, где вообще нет ни морали, ни религии. Ницше называет антимораль "моралью господ" — подчеркивая, что в классовом обществе нет единой морали: Quod licet Iovi, non licet bovi. Выставляя христианскую мораль как абсолютную, общечеловеческую, Д. в очередной раз демонстрирует менталитет лакея, выслуживающегося перед барином, чтобы иметь возможность помыкать прочими холопами.
* * * Снова о ненависти Д. к разрушителям поповских абсолютов: "Ренессанс как прибежище философского аморализма". И много-много псевдоученой чепухи. Но эпоха Возрождения — начало становления капитализма, период "первоначального накопления", превращения капитала в движущую силу экономики. На что потом добропорядочные буржуа навесили фиговые листочки — в ренессансном обществе цветет во всей неприглядности, — но и не расценивается как неприглядное по меркам той культуры, с позиций приходящего к власти класса.
* * * Как и прочие клеветники, как германские нацисты, Д. выставляет Ницше апологетом "лавр завоевателя и покорителя, наводящего ужас на покоряемых" [123]. Глупость неимоверная. Ницше смотрит со стороны на мышиную возню недочеловеков — для него они все скоты, и одна мораль не лучше другой. Речь о том, чтобы вытащить-таки человечество из скотского состояния, из вечной войны одной морали с другой. Слабость позиций Ницше в том, что одной декларации о намерениях недостаточно — нужна экономическая база, и не какая-нибудь, а вполне определенного типа; строить воздушные замки — не то же самое, что реально перерабатывать в мечту наличествующий строительный материал. Однако без мечты, при любых арсеналах строительство не начнется — и мыши разворуют, растащат строителей по углам.
* * *
Это из области опечаток по Фрейду? Великий конспиратор Д. скрывает имена своих работодателей... Называет их "абсолютами" — или "нормами и правилами человеческого поведения". Но мы-то знаем: за этими кликухами — оскал мирового капитала, увешанного долларами и бомбами, весьма убедительно демонстрирующими отличие "морали господ" от рабской и плебейской морали.
* * * Как ни пытается Д. переврать представления Ницше о любви, поэзию не спрятать за метафизикой:
Тем самым, любовь решительно отделена от морали, от послушания и добродетели, — выведена за рамки борьбы добра и зла. Но это — человеческая любовь. Попы (и апологеты буржуинства) подменяют слово — и называют любовью совсем другое: рабскую покорность.
Совершенно справедливо, Ницше называет это "стадным счастьем": отказ от разума и слепое следование велениям очередного "бога" (будь то мистическая фантазия — или реальный автоматчик на вышке). Человек (бесконечный в своей разумности, равный миру в целом!) — схлопывается в "маленького человека", которому только и остается, что верить, будто все запертые вместе с ним в клетке, — божьи избранники. Такие могут навалиться гуртом, одолеть, подмять, — и торжествовать, упиваться дикой мощью — выражением барской власти.
Гениально! Просто слов нет, до чего здорово. Смерть любви — смерть личности, утрата духовности, — уподобление животным, болезнь. Как только человек признает себя частью общины, рабом (в частности божьим) — он уже не человек, а всего лишь особь, биологический индивид. Удивительно ли, что и обращаются с ним, как с животным? Хорошо еще, если барин попался добрый... У Ницше — лучистый сгусток идей, которые можно обсуждать очень долго. Однако здесь (к сожалению) о другом — о "поврежденном" философе Д., начисто лишенном любви.
* * * Достоевский велик как писатель — но философ из него никакой. Разумный человек ищет в искусстве художественность; официозные пропагандисты — выискивают догмы и лозунги, — а на самом деле просто подменяют писателя собой, прикрывают его именем лакейскую подлость. Неудивительно, что Достоевский у Д. всегда прав, а Ницше — вроде мальчика для битья.
* * * В соответствии с пошлыми традициями эмпирионатурализма, нравственность Д. выводит из физиологии [134]:
Ссылается Д. на Преступление и наказание — речи "бедненького" (подленького) следователя Порфирия Петровича (одна из самых мерзких фигур в сатире Достоевского). В переводе с метафизического — речь о том, что все в человеке — от его природы, которая заложена в него изначально и с которой уже ничего не поделаешь. Чуть выше — эту идею Д. приписывал Ницше и ругал на чем свет стоит. А тут пожалуйста: столь превозносимая г-ном Д. высшая Правда (с большой буквы!) оказывается всего-навсего зовом плоти! Плоть становится критерием истины, оплотом морали. Разумеется, Д. лжет. Его натура — эвфемизм рабской покорности и лакейской преданности; она никоим образом не встроена в человека — это целиком и полностью продукт воспитания. Легавые рассуждения сводятся безусловному требованию властей подчиниться абстрактной ("абсолютной") законности, которая, якобы, одна на всех; адаптация самодержавного закона для широких масс — религия и мораль. Можно согласиться:
Да. Она им просто не нужна. Верный себе, Достоевский противопоставляет дикой природности активное человеческое начало — не позволяя ни тому, ни другому превратиться в абсолюты:
Путей разрешения классовых конфликтов Достоевский не видит — он просто показывает все как есть, в надежде, что разумные люди таки найдутся и что-нибудь придумают. Но когда писатель (совершенно справедливо) указывает, что всякий идеал предполагает стремление к нему и готовность участвовать в общем деле (а иначе это уже не идеал, а кухонная метафизика), — Д. в упор не понимает и объявляет это "экзистенциальной постановкой вопроса". Батюшки! — при чем здесь экзистенциализм? Простая вещь: идеи не существуют сами по себе (как витающие в вакууме "абсолюты") — они воплощены в практике, они выражают (они и есть) всеобщее содержание этой практики, ее место в человеческой истории; нет практики — нет идеи. А Д. предлагает вместо обращения к людям — общения с людьми — проверять истинность одной лишь своей натурой, прислушиваться к голосу плоти ("чисто телесным способом"). Да, это исходный пункт экзистенциализма — но далеко от Достоевского.
* * * Она продолжала твердить свое ... до тех пор пока Раскольников не поклялся всенародно в совершенном злодеянии. Еще одна опечатка "по Фрейду". Покаяние — не признание вины, а ее разделение с широкой публикой (типа: распить на троих), превращение в аттракцион, в балаган. Чем публичнее — тем меньше груз на каждом из приобщенных. И можно гордиться собой — "клясться", а не каяться. Окаянная "натура" тут же стихает: грехи смыли в ярмарочный унитаз, прицепиться не к чему.
* * *
Нельзя абстрактно отрицать, "устранить" мораль — на ее место неизбежно встанет другая. И не какая-нибудь, а мораль определенного класса. Раскольников — деклассированный элемент, и ему приходится заимствовать чужую мораль; разумеется, это мораль господствующего класса, "христианская" мораль. Поэтому и нечем заменить абстрактный принцип "не убий!" — моральный абсолют, придуманный господами для рабов: господин может убить раба — а наоборот не положено. Разумный путь — избавиться от любых абсолютов, перейти от абстрактных принципов к деятельности, от отрицания к утверждению. Этика активного преобразования мира просто не нуждается в морали. Достоевский не сумел. Призывая не возводить принципы в абсолют, он все же тоскует по простой (животной) определенности:
Все, что предлагается видеть в Раскольникове — "гордость, личность и заносчивость". По счастью, роман гораздо глубже неуклюжих авторских философствований — искусство ведет художника за собой, делает его рупором общества в целом, а не только господствующего класса. Разумеется, Д. всеми клешнями ухватился за малодушную философию, а вдумчиво прочесть книгу — ему западло:
Снова христианская заповедь (разумеется, только от господ рабам): не возгордись! Парадоксальным образом, Достоевский оказывается в родстве с Раскольниковым: голое отрицание без переосмысления, слепое подчинение господствующей морали — вместо освобождения от моральности как таковой.
* * *
Образчик непроходимо тупого "глубокомыслия" г-на Д. Если бог есть — пусть он покажется нам, и мы тогда решим, как и по поводу чего с ним общаться. При случае и за бороду можно. Если же бог вообще никак себя не обнаруживает — его просто нет, и эта идея нам совершенно ни к чему. Обойдемся своим разумом. Смысл — не "в мире"; он в человеческой деятельности. Получится пристроить к ней бога — и в нем будет смысл. Но если бога нет — миру от этого ни жарко, ни холодно: мы по-прежнему делаем то, что нужно нам, и сами производим и преобразуем смыслы. Д. пытается молчаливо подсунуть нам очередной "абсолют": люди (рабы божьи) сами ни на что способны — поэтому руководить ими и направлять их труды должен некий "сверхчеловек" (барин, бог). Тогда, конечно, смысл своего бытия мы обязаны видеть в прислуживании начальству — а нет начальника, так и смысла нет. Рабле г-н Д., очевидно, читал так же, как Достоевского — больше по отзывам буржуазных критиков, с позиций филистерского абсолютизма. Иначе он вспомнил бы, что возведение в абсолют заповеди "делай, что хочешь" привело к прямо противоположному — к стадности. Обитатели райской утопии, живущие на всем готовом, просто разучились хотеть — и тупо повторяли случайные позывы одного из них (вроде панурговых баранов). Дайте таким "мудрого" пастыря — и вот вам хищная стая наемных убийц, готовых разорвать в клочьях всех, кто не согласен с мнением начальника. Действительно освобождение возможно только в деятельности, в совместном труде по преобразованию мира. Для этого каждый должен иметь возможность не только представить себе этот идеал — но и руки приложить, заняться практической реализацией вымечтанного, на ходу корректируя курс, спрямляя перегибы. Да, мы по-прежнему делаем то, что хотим; но хотим мы не просто делать, а делать разумнее мир — не для себя любимого, а для любимых. Мы учимся хотеть разумно, не чего попало — а всего! Наша задача одухотворить, окультурить весь мир — работы непочатый край, не соскучишься, — бирюлькаться с абсолютами некогда, да и никакого желания.
* * * Честно признаюсь: Камю и Сартра я ставлю в один ряд с г-ном Д., и встревать в их межсобойчик мне без надобности. Замените одну веру на другую, один абсолют другим — картина не изменится. Быстренько пробегаем мимо — карандашик отдохнет...
* * * Клевета на маркиза де Сада (якобы жаждавшего "актов зверского убийства") — очередная подлость Д., мерзкая подтасовка, — в расчете на недоступность источников советскому читателю. Сад не только звал к подлинной, человеческой свободе — но сам утверждал ее, отвергая диктат права, морали, религии и прочих "абсолютов"; его ненавидел "первый консул" (а потом и император) Наполеон: гноил в тюрьме и в конце концов убил. Сад вовсе не "любовался мучительной агонией своих жертв" — он принес себя в жертву во имя свободы, светлого будущего для всего человечества. Книги Сада — полны высочайшего гуманизма, это великая философия — а не жалкие потуги господ-метафизиков. Даже выбранный им (далеко не самый удачный) способ популяризации — попытка проникнуть в заскорузлые души, используя (тщательно скрываемый, но неизменный) интерес обывателя к грубому сексу, к порнухе, — не выбивается из общей идеи: против предрассудков и предубеждений, — чтобы каждый сам решил, что ему ближе, поставил тело на службу разуму.
* * * Сартровские Мухи — яркое выражение господствующей идеологии (приверженность которой всячески демонстрирует г-н Д.). Черчилль провозгласил принцип тотальной войны — и налеты авиации союзников уже не имели в виду военные цели, а просто стирали с лица земли целые города, истребляли население сотнями тысяч. Позже американцы утюжили японские города, за один налет убивая десятки и сотни тысяч людей — всех подряд. Атомная бомбардировка на этом фоне уже не казалась чем-то из ряда вон выходящим — зато простые американцы (по воспоминаниям современников) "плакали от радости и облегчения", и "спешили к телефонам, заказывать столики, чтобы отпраздновать это событие". Линия продолжается и все послевоенные десятилетия: если великие державы, готовые истреблять в любых количествах и любыми средствами нарушающих принципы абсолютной демократии мух. Если фашисты еще опирались на какие-то "абсолюты", убивали, следуя выработанной ими для себя идее права, — англичане и американцы (а за ними и французы) приняли войну как оправдание слепого убийства ради убийства, когда не имеет значение, кого убивать (вот он, призрак Варфоломеевской ночи: господь на небе своих найдет). Разумеется, спекулировали на патриотизме, твердили о необходимости сохранить бесценные жизни "своих" — ценой ничего не стоящих мушиных жизней. Это подлость, игра на низменных чувствах, животном страхе — растворение разума в животности.
Пьеса не существует без публики. Даже если не идет на театре. Если пьесу принимают — это не "другой вопрос", это показатель нравов эпохи и общественной среды; следовательно, пьеса выражает именно то, что в ней усматривает общество, — независимо от намерений автора. Сам же Д. через пару страниц говорить об "удовлетворении", с которым принимали пьесу убежденные нацисты — хорошая иллюстрация неотличимости одного абсолюта от другого.
* * * Когда Ясперс утверждает, что "все немцы, жившие при Гитлере в Германии, и каждый из них в отдельности, в той или иной мере повинны в кошмарных преступлениях, которые творили гитлеровцы", — он фактически оправдывает военные зверства англичан и американцев; именно этот аргумент теоретики современной войны выставляют на первый план, призывая убивать, убивать, и еще раз убивать. Разумеется, военная машина все подгребает под себя — и нет никого, кто так и или иначе не работал бы на войну, — а следовательно, нес ответственность за ее последствия и становился мишенью. Рабочий, собирающий на конвейере автоматы (и женщины, фабрикующие патроны к ним), — пособник солдата-убийцы; те, кто добывает руду для этих изделий — тоже убийцы; те, кто разводит скот и возделывает поля — кормят убийц, и тоже убивают. Не говоря уже о женщинах, рожающих всех этих убийц и будущих рожениц.
Поэтому давайте все вместе еще раз помолимся — и дружненько в геенну огненную... В чем глюк? Все в том же — в этическом (если бы только этическом!) абсолютизме. Не бывает абстрактного "бесправия" и абстрактных "преступлений" — равно как и абстрактного "уничтожения", или "соучастия", — или "вины". Есть обычные люди — и в каждом поступке много чего намешано, и мух от котлет не отделить. Вот и надо честно разбираться с каждым конкретным лицом — и всеми его деяниями, не деля огульно на "зло" и "добро". Соответственно, не исправлять "ошибки", не "искупать" и не "каяться", — просто идти дальше, пытаться сделать следующий шаг разумнее предыдущих. Думать о том, что можно сделать, что следовало бы сделать здесь и сейчас.
Да нет тут никакой проблемы! И не надо высасывать из пальца трагизм. Если вы будете грузить себя абсолютами ("вина", "ответственность", "раскаяние") — вы ни на шаг не продвинетесь в будущее, прошлое затянет вас в свою трясину — и вместо "изживания" сплошное переживание (пережевывание), воспроизводство того же самого снова и снова. Чтобы "двинуться дальше" (к чему и я всех призываю) — надо уже быть там, в этом самом "дальше", прикидывать, что предстоит совершить и как бы это разумнее организовать — с учетом прошлого опыта. Мы как бы забрасываем веревку мечты в будущее, убеждаемся, что она зацепилась за что-нибудь прочное, — и вытягиваем себя из болота. Да, может зацепиться не за то. Бывает. Придется пытаться снова и снова — и каждый шаг разумнее предыдущего. А пускать слюни по поводу "радикального несовершенства" — значит смаковать его, наслаждаться им, юродствовать. Это не наш путь.
* * *
И на старуху бывает проруху! Д. таки сказал что-то относительно умное. Или слямзил у кого?
Это примерно как стоять по уши в дерме — и время от времени высовывать ноздри, глотнуть воздуху... И ни малейшего позыва вылезти и помыться. Тут Д. с ним вполне солидарен [156]:
* * * Нравственно оскопивший себя метафизик Д. видит только две перспективы: либо лбом об стену — либо сопли по стене [157]. Первый вариант — принять
Или же — встать на
Догадайтесь с трех раз, кому давыдовские симпатии! Конечно же не "нигилистам":
См. выше про "путь к высшему". А понимать это "высшее" следует как "вышестоящее" (или, скорее, "высокопоставленное"). Содержание всей вашей жизни — указания начальства, и только такая, "содержательно ориентированная" свобода ведет в "истинную бесконечность". И то верно: у кого лбы недостаточно чугунные — могут и расшибить об абсолют; а соплей у нас на целый век хватит — и можно бесконечно каяться с собственно низости царю-батюшке (а потом еще и какому-нибудь богу). Короче: не кидаться на барина с топором, а кидаться с топором на того, кого укажет барин. У разумного человека вовсе не два пути, а сколько угодно, и всегда можно при необходимости добавить еще пару бесконечностей, — но Д. об этом не слыхал (потому что благоверным про это знать не положено). Значит и про нигилизм — либо Толстой с Достоевским ("нравственная философия") — либо (вездесущий дьявол!) Ницше, с его "философским аморализмом". Не положено больше никого пущать! А то тут некоторые всякие марксизмы выдумывают... Или — еще хуже — начинают от своего имени говорить: оскорбление в лучших (верноподданнических) чувствах, форменное кощунство — нигилизм!
* * * Ницше можно уважать уже только за то, что он до такой степени уел метафизика и абсолютиста Д.; а сколько других, ему подобных, — и не сосчитать! Что и говорить, "размышления Ницше положили начало целой философской традиции" [160]. И даже не одной. Как минимум, есть идиотское ницшеанство — и есть идиотская критика; и то, и другое успело оформиться в многотомие клеветы. Вероятно, имеются и вдумчивые читатели, способные разобраться в доступных текстах и не путать революционные идеи с традиционными формами выражения, клише, речевыми оборотами. Но таких начальство публиковать не велит. А вылезут через самодеятельность — кто ж их заметить в потоке мутной грязи, которую Д. именует "философским просвещением"! Как понимают все нормальные (не абсолютизированные) люди, Ницше вовсе не пуп земли, и кое-кто полезно потрудился и помимо него. Мне, вот приятно иногда Маркса почитать... Или Гегеля. Современных, к сожалению, почти нет: один Ильенков высится на горизонте; но философствующие писатели (вроде Ефремова, Стругацких, и дюжины других) дают достаточно пищи для размышлений и далеко идущих выводов. На крайний случай — хоть стихи почитать. Бальзам для мозгов.
* * * Чтобы хоть как-то огрызнуться, отбрехаться от приставучей тени великого немца, Д. пытается обвинить того во вторичности, в плагиате: вот, поначалу у Вагнера тащил — а под конец все от Достоевского. Ну, Шекспир тоже промышлял переработкой старых сюжетов; а Эйнштейн взял готовую математику у Планка, Пуанкаре и Римана — добавил пару слов от себя — и вот вам нобелевский лауреат... Мимоходом (якобы по мотивам Ницше)
Идея, между прочим, богатая — если не забывать про диалектическую струю, и про марксизм-ленинизм. Россияне Хайдеггера неоднократно передирали — но дальше тупой метафизики так и не пошло. А суть-то как раз в том, что метафизичность — выражение классового расслоения, характерно классовый способ мышления, чувствования, действия. Пока история всех человеческих обществ остается историей борьбы классов, метафизики правят бал. И не только в философии.
* * * Согласно Д., "немецкий мыслитель" ничем не мог заниматься, кроме разработки "ницшеанской схемы нигилизма", — и
При этом, якобы, предполагалось тупо использовать Достоевского "для подтверждения ницшеанской концепции нигилизма" — а тот не дается: не хватает "пластичности" — и все потому, что у Достоевского уже на мази "собственное понимание нигилизма, не уступавшее Ницшевому по глубине и проникновенности". Забавное признание: Ницше таки глубок и проникновенен! — пусть даже до Достоевского ему далеко, особенно в интерпретации г-на Д. Невольный комплимент врага — иногда ценнее тонны восторженных почитателей. Фишка в том, что никакие цитаты или ссылки не способны ничего "подтвердить". Пока свои извилины не напряг — телега философии стоит как вкопанная. У особо башковитых — она не только сама в гору катится, но даже и летать умеет. Разумному человеку вообще не требуется что-либо подтверждать, кому-то что-то доказывать. Он действует (и философствует) как считает нужным — и общается с другими такими же не ради сколачивания банды злоумышленников, а просто по душевной склонности, духовному согласию. В таком общении каждый волен думать свое — и незачем свозить всех в один монастырь и стричь под одну гребенку; более того, люди интересны друг другу именно разнообразием, несходству единого. Ницше (заочно) общался с Достоевским, Гегель с Кантом, Ильенков со Спинозой, — и всем от этого хорошо. Сегодня я общаюсь со всеми, и мы свободно делимся находками друг с другом, — только с Д. я общаться не хочу.
* * * Ницшевская предварительная периодизация истории европейского нигилизма — достаточно разумна, и достаточно сопоставить ее с экономической историей, чтобы уловить динамику, показать движущие силы и взаимодействие уровней культуры. Схема универсальна — это обычный путь рефлексии. Сначала новое возможно только в старых формах; потом осознание несоответствия формы содержанию и всплеск формальной комбинаторики — поиск нового как отрицание старого, противопоставление одного другому; накопленный таким образом опыт позволяет перейти от отрицания к самоопределению — и здесь три этапа, три направления деятельности, три взаимозависимых подхода: дифференциация (выделение сторон и уровней предмета), интеграция (осознание взаимодополнительности и взаимопереходов), снятие различий (переход к новому единству); в итоге новое становится неотъемлемым компонентом культуры — само собой разумеющимся способом действия. Примените это к нигилизму — в точности воспроизводится схема Ницше; примените это к (классовой) экономике — и перед нами история общественно-экономических формаций. Важно, что люди не стихийно ведут себя в соответствии с абстрактной схематикой, а сознательно ее воспроизводят как продукт деятельности.
* * * Бродить по архивным материалам и черновикам — занятие, безусловно увлекательное. Но по предыдущим главам технологию обработки источников у Д. можно представить в полном объеме, и отслеживать логику его сопоставлений нужды нет. Уж лучше напрямую: взять собрание сочинений — и заглянуть в лабораторию духа Ницше, памятуя о неуместности слишком уж глобальных выводов на основе (заведомо несовершенных) черновых формулировок. Туда я всех и посылаю — благо сегодня все тексты доступны в интернете, и пудрить народу мозги возможно лишь там, где народ требует именно этого.
* * *
Д. опять пытается пальцем в небо... Для метафизика — слово есть то, что написано в словаре, и никаких других значений быть не может. Понять, что кавычки у Ницше отнюдь не "иронические" — Д. не в силах. А речь-то о том, что словечком "любовь" кое-кто (например, Д.) любит прикрывать всякого рода нечистоплотности. Чтобы не перепутали, не подумали, что речь идет о настоящей, человеческой любви — надо закавычить слово, вывести его из словарного контекста. Но дикари все равно перепутают, и дурно подумают — не умеют они иначе... Ницше сравнивает одно закавыченное с другим — ничего больше. Одно не лучше другого — но для Ницше эти обрывки не сами по себе: философ обязан видеть за каждой мелочью проблески чего-то единого, что на мелочи не разменивается. Мещанская "любовь" — действительно фальсификация реальности, и тут Ницше прав на все сто. Но сбегать от любви в "страдание" — то же самое с обратным знаком (ибо "страдание" точно так же глушит разум, "опьяняет" — о чем тот же Д. нам таки сообщает); вместе эти фальсификации складываются в тупой нигилизм, разврат — бессмысленный хаос вместо разумного поведения. Демонстративные "нигилисты" — отрицают одно в пользу другого, и могут в любой момент метнуться в обратную сторону, или в другую крайность (абсолют). Чтобы (хотя бы) заметить реальность (и стать реальным) требуется иное, универсальное отрицание — отрицание всех без исключения буржуазных абсолютов, как бы их ни называли, — чтобы вырваться, наконец, из кавычек и вернуться к человеческим, осмысленным словам. Классовое сознание заперто в клетке рынка — и строит рыночный мирок, прячущийся от мира в кавычки. Обывателю (даже с философским дипломом и окладом) посягательство на этот, бесконечно узкий быт — кажется уничтожением всякого бытия, обращение всего в ничто. Но универсальное отрицание лишь выводит нас к разуму, освобождает от грязи — как росток пробивается к свету из глины; списать в утиль очередной абсолют — будто пылинку смахнуть с цветка. Поскольку человек (как субъект деятельности) занимается как раз универсальным связыванием мира воедино, любая универсальность — даже в (классово ограниченной) форме универсального отрицания, — шаг в будущее, в котором никто не гоняется за "удовольствиями" и не занимается "полаганием ценностей": люди просто дышат свободой, ведут себя и общаются друг с другом по-человечески.
* * *
То есть, там, где Ницше видит свет — и путь к свету, — Достоевский (конечно, не настоящий, а придуманный Д.; "Достоевский" в кавычках) тонет "в ночном мраке" (я бы сказал: в ночном горшке). Вместо того, чтобы избавиться от метафизики абсолютов, освободиться от классового размежевания на "добрых" и "злых", и понемногу приходить к единству (к любви) — в перспективе вечная вражда, в которой (по мнению Д.) "добрые" (господа) всегда сумеют задавить "злых" (рабов), приведут чернь к повиновению. А кто не повинуется — тому гибель. Палачей на всех хватит.
* * *
Тупость Д. воистину абсолютна. Ему снова и снова объясняют про уничтожение абсолютов — а он воспринимает это как очередной абсолют. Мир без этого Д. даже близко представить не может. Свою метафизику — приписывает другим. Но уничтожение абсолютов по Ницше — это вовсе не переход в "ничто"! Напротив, это стремление не быть ничтожеством, подлецом и развратником — и уж тем более не духовным растлителем, подобно г-ну Д. Раб абсолютов — это и есть ничто: его существование — лишь тень господской воли. Но мы будем строить наш, новый мир, и кто был ничем — тот станет всем! Песенка, абсолютно противная абсолютному слуху бар и попов, и их лакеям от "философии". Ницше зовет к свободе. Которая не придет сама — надо ее делать, трудиться, творить, разбивать один абсолют за другим. Кто струсил, сбежал в ничто, — так и остался ничем; разум не уничтожает, а утверждает себя. Это вовсе не придуманная апологетами властей "воля к власти" — нет, это, скорее, власть над волей — способность не позволять ей отодвинуть в сторону разум, сделать всего лишь одним из инструментов, а не абсолютной панацеей.
* * *
Снова: должны согласиться — не положено иметь собственное мнение! Про диалектику, про переход количества в качество, — от сатаны. Метафизика превыше всего. То есть, абсолютно.
* * * Ницше опять приписывают "физиологически ориентированную" якобы "философию жизни". Чья бы корова мычала! Ницше пытается вырвать человека из животности, сделать духовным существом, — и начхать ему на мельтешение жизней: человеку нужен весь мир, во всей его бесконечности.
* * * Про универсальность ницшевской схемы исторического развития выше сказано. Даже тупой критик чувствует глубинную мощь — снова и снова возвращается к теме. Поскольку всерьез возразить нечего — остается классический метод буржуазной пропаганды: все переврать и опошлить. Чем Д. и занимается на с. 180–181, переводя Ницше на язык абсолютов; поскольку абсолютизм с Ницше несовместим — получается набор нелепостей, которые потом легко охаять за эту (искусственную) нелепость. А в историко-материалистической трактовке — понятная и последовательная теория: 1. Классовое общество навязывает массам право, религию и мораль, выдавая их за само собой разумеющееся, одинаковое для всех, вечное и неизменное (абсолютное). 2. Классовая культура постепенно перестает отвечать направлениям исторического развития и воспроизводит лишь самое себя, объявляет господство одних над другими "общечеловеческой ценностью", якобы вытекающей из "природы человека". Свободомыслие преследуют, стремление к свободе — преступно. 3. Противоречие отживших форм экономики и рефлексии уровню развития производительных сил проникает в массовое сознание отрицательным образом — как сомнение, скепсис, смутное неприятие, пессимизм, слепой протест, — нежелание следовать тому, что каждый день на деле обнаруживает свою несостоятельность. Пока люди не замечают зародышей будущего в современности, они огульно отрицают все налично существующее как "абсолютное зло" — и тем самым лишь укрепляют власть прежних абсолютов. 4. Если не удается осознать причины кризиса и логику выхода, пассивное неприятие переходит в саботаж, стихийные бунты; однако без положительной программы строительства нового мира политические и духовные революции оказываются лишь переворотами, ничего не меняющими по существу и тем самым обесценивающие саму идею перехода к новым, более разумным формам общественного устройства. Так возникает нигилизм как "логика декаданса" — разрушение ради разрушения, животность. 5. Собственно революционные изменения опираются на идеи, которые поначалу доступны лишь узкому кругу "революционеров", — однако построение нового мира невозможно без продвижения идей в массы, консолидации трудового народа в общность нового типа, где прежние общественные установления уже не имеют никакой силы. Такой, деятельный "нигилизм" — это не разрушение, а становление, внедрение новых черт в прежние формы бытия, переосмысление их. 6. Когда новая идеология достаточно укореняется, очередной переворот не просто перераспределяет богатства и власть, а приводит к установлению производственных и духовных отношений нового типа, снятия прежних "абсолютов". Но если способ производства зиждется на эксплуатации человека человеком, смена общественно-экономических формаций не сопровождается коренными изменениями в культуре; история при этом производит впечатление круговорота, возвращения одного и того же — противостояния верхов и низов, господства и подчинения. Только полное уничтожение классов, ликвидация рынка и собственности — разрывает этот круг, делает людей свободными, дает возможность каждому участвовать в преобразовании любых уголков вселенной. В этом контексте, "нигилисты, как мы видим, призваны, по мысли немецкого философа, сыграть в основном служебную роль". Так оно и есть. Они не боги и не пророки — они просто люди, которым дано выразить назревшие тенденции общественного развития, — сделать скрытое явным. Через них общество осознает собственную историю. Однако движущая сила истории — не гениальные одиночки, а широкие народные массы, делающие будущее своими руками — не сознавая своего величия. Это не "маленькие люди", рабы и лакеи, — это кузнецы собственного (и всеобщего) счастья, носители разума.
* * *
Пока человек не оскотинился, пока его не довели до абсолютной животности, — от него никто не может ничего требовать, он сам решит, что разумнее сделать. Нет для свободного человека никаких традиций и абсолютов — и ему вообще нечего "преступать". Господа узурпируют право говорить и требовать от имени всего человечества — и присваивать плоды общего труда. Нет у них такого права — а есть подлые прислужники (вроде Д.), каратели, тюремщики. Других абсолютов не бывает.
* * *
Отнюдь! Писатель Достоевский (в отличие от подставы Д.) ясно дает понять, что любые абсолюты — против людей, и что возможны они лишь там, где человека делают конечным и смертным; даже иллюзорное освобождение — знак величия.
Свести общественные проблемы к морали — обычный трюк буржуазной пропаганды. Дескать, не общество менять надо, не свергать власть буржуев, — а изменить свое отношение к общественному уродству, принять ограбление масс буржуями как должное и не сопротивляться грабителям. Верхи насаждают живодерскую мораль, опутывают народ всяческими запретами, истребляют любые сомнения в начальственном праве запрещать или позволять. Для свободного человека сами понятия запрета и позволения — бессмыслица; мы поступаем так, как считаем разумным, — и нам вообще никто не указ. Не надо нам ваших проблем, с больной головы на здоровую.
* * *
И на солнце бывают пятна! Классик таки не абсолютно прав: как же можно сомневаться в существовании бога, не признавать мистического содержания и возвышенности культа? Г-н Д., вот, ни капельки не сомневается — и вообще, "сфера идеального измерения человеческого существования" состоит из абсолютов, "гарантированных самим богом" [181]! По всей видимости, имеется в виду не какой-нибудь фаллический культ, а истинно монархическое православие. Каким образом "моральное измерение" может быть присуще человеку изначально — это тоже мистика. Или Д. стаскивает с Ницше напяленное на того обвинение в физиологизме и заявляет, что мораль есть врожденное свойство — и следовательно, сводится к физиологии? Зверушки, они тоже как-то друг с другом уживаются — хищными прайдами, дружными стадами, а у рыб — офигенные косяки! Совместное бытие под надзором полиции нравов — это вовсе не человеческое общежитие, а клетка в зоопарке (или камера в тюрьме). Разумные люди — учатся быть совместно с другими всю сознательную жизнь, а также до и после. Это не приходит само по себе — общество надо строить, и все в нем — продукт деятельности. И здесь Ницше полностью прав; но
Кстати, опять проговорился: физиология у Ницше вмешивается в людские дела там, где они перестают быть людьми, вырождаются, скатываются в животность. Для классового общества — это норма. Остается только конкретно указать, кто будет делить на нормальных и ненормальных — и мы тут же придем к классовому строению экономики и быта.
Как обычно — Достоевским Д. величает самого себя; диагноз: мания величия... Соответственно, нормальностью (по определению) считается согласие с Д.: именно он правильно выражает идеалы абсолютизма!
Вот и опять свели дух к физиологии. Обычное двурушничество: требуют соблюдения приличий от рабов — а господам не обязательно...
* * * Согласно Д., дубовая голова — залог душевного здоровья. Чем тверже — тем здоровее. Когда какой-нибудь Ницше пытается работать головой не только в смысле стучать об пол (перед образами, разумеется), это дуболомам
Классовое господство выдают за "естественное положение вещей" — и это нормально, поскольку естественность = дикость, а классовый мир далек от разумности. Чтобы поставить вопрос об уничтожении такого, животного порядка и наведении порядка разумного — это ересь. Позиция "русской нравственной философии" предельно ясна: рабам рабское, господам господское, — и не вздумайте бунтовать!
Врете, господин нехороший! Ваша система не просто "была положена в качестве абсолютной" — ее тысячелетиями насаждали огнем и мечом, и лишь потом добавили еще и крест (поначалу для казни — потом и для духовного распятия). Когда недовольство достигает "критической массы" — это революция; а вам уж очень хотелось бы в зародыше задавить протест — для этого и внушают рабам, что без абсолютов никак нельзя, что на смену одному придет другой — так зачем менять шило на мыло?
* * *
Открытым текстом: православие, самодержавие, народность. И снова физиология: жизнь человека сужена до "органических основ", и ничего кроме "естественного" (то есть, животного) состояния нам не светит... Начальство призывают "преодолевать нигилизм извне" — железной рукой истреблять нигилистов во имя нерушимости абсолютизма — и чтобы другим неповадно было.
* * * Следующая глава целиком посвящена религиозной агитации. Раз уж Достоевский и Толстой сделаны идолами "нравственной философии", придется их реабилитировать в глазах идолопоклонников — объяснить, что на самом деле они самые что ни на есть правоверные, а если русская церковь и монархия их не жаловали — то исключительно по досадному недоразумению. Как всегда, страшнее Ницше зверя нет — а его атеизм еще страшнее, потому что теперь "мы не имеем больше над нами абсолютно никакого господина", и "над нами нет никакой более высокой инстанции". То есть, если бы только на бога покушались — еще куда ни шло; но здесь черным по белому речь о неповиновении начальству! Бунт — и призыв бунтовать.
Все с ног на уши. Наоборот: именно нежелание терпеть какие бы то ни было внешние ограничения влечет за собой также отказ от любых религий: свободный человек в боге не нуждается — как (по жизни набожный) Ньютон не находит места богу в математике механического движения.
Гнусная ложь! Ограничивают нас экономически и силой оружия, морят голодом и сгоняют с насиженных мест, бросают в тюрьмы, пытают и распинают на чем придется. На нас натравливают банды оболваненных "защитников морали", и можно нарваться не только на "поражение в правах" — но и побьют, и покалечат; власти поддерживают разборки "по понятиям", открыто признают полномочия уголовных авторитетов. Душещипательные беседы — всего лишь надстройка, довесок, лыко в начальственную строку.
Чушь! Не может мифологема "выступать гарантом" — ее делают символом своей власти власть предержащие. Нет богов самих по себе — их изобретают люди, чтобы угнетать других людей. Ницше против барского насилия — а не только его символов. Разум — мерило всему; но разум не нуждается в богах. Ницше пишет:
Это черновик, неудачный оборот речи: все, что приписывают богам — дело рук людских; но зачем свободному человеку изображать из себя такое, заведомо ограниченное существо? Мы не хотим быть богами — мы хотим быть людьми!
Какая разница? Человеческая воля и человеческая чувственность — стороны одного и того же, атрибуты разума. Классового человека обкрадывают во всех отношениях — ограничивают как чувства, так и желания. Сначала грубым насилием — потом промыванием мозгов. Ницше начинает с воли — это логично, поскольку речь прежде всего о запрете жить по-человечески, свободно трудиться, творить и любить. Как мы действуем — так мы и чувствуем. Маркс копнул еще глубже — и от субъективности действия перешел к его всеобщности, к труду как пересозданию мира и человека.
* * *
Метафизик Д. мыслит убийство само по себе — как абстрактную идею, абсолют. Но человеческие деяния — в контексте деятельности в целом, на всех ее уровнях, вплоть до всемирно-исторического звучания. Люди разумные — подбирают способы действия в зависимости от условий и задач; дело тут не в самокопании — а в соответствии инструмента характеру труда. Разумеется, поскольку уважение к свободе других — неотъемлемая сторона личной свободы, убивать по дури никто не станет; но если в общих интересах (а значит, и в интересах каждого) изъять из обращение одно из органических тел — это не вопрос этики, а чисто технический вопрос. Этика определяет характер действия — но никак не влияет на его общественную (историческую) необходимость. Способы умерщвления в классовом обществе — изощренная жестокость, цель которой — нагнать страх на рабов. Власти всячески сопротивляются проектам легализации эвтаназии: если раб в любой момент может исчезнуть — как его эксплуатировать? Легкий, блаженный уход из жизни — мечта тысячелетий. Там, где это возможно, различие убийства и самоубийства полностью снимается. Но такое снятие — не абстрактный идеал отдаленного будущего; оно на каждом шагу происходит в недрах классовой, и прежде всего капиталистической действительности — в извращенных, классовых формах. Нет ничего проще, чем довести человека до самоубийства: достаточно сделать невозможной жизнь, довести страдания до такой степени, что (даже страшная) смерть покажется избавлением. Когда вам предлагают выбор между расстрелом из огнемета (или распилом бензопилой) и добровольным цианидом — вы наверняка предпочтете последнее. Цивилизация придумала тысячи иных, более утонченных воздействий: наркотики, психическая болезнь, религиозный фанатизм и патриотизм... Наконец, смерть за деньги, на потеху публике (или чтобы прокормить семью). С другой стороны, ставя подпись под документом, политик или коммерсант формально никого не убивает; во сколько миллионов трупов выльется эта закорючка — никому не интересно.
* * * Нигилисты Достоевского чувствуют себя обязанными что-то кому-то доказать — публично продемонстрировать свою исключительность. Но тем самым они уничтожают эту самую исключительность, сливаются с серой массой, покорно следующей чуждым для них абсолютам. Все, что остается такому, зажатому в абсолюты недочеловеку — страх. Свободному человеку незачем изображать, доказывать, подтверждать свою разумность — ему вообще до нее дела нет: когда разум есть — мы просто используем его в труде, в творчестве, в любви, в повседневной жизни, — и думаем при этом не о себе, а о предстоящих свершениях, ищем приемлемые, человеческие варианты действия. Сводный человек никому ничем не обязан и ничего не должен; он поступает так, как того требует поставленная всем ходом истории общечеловеческая задача, которая стала в какой-то момент частью его личности.
* * *
Здесь Д. опять подсовывает Достоевскому свою метафизическую идею человека вообще, самосущую абстракцию вместо реальных людей. Признавать именно такого "человека" — это уже признание абсолюта, так что навешивание всех прочих — дело техники (как говорится, дурак дурака видит издалека). Такие половинчатые — очень нужны властям, их намеренно производят в системе классового воспитания, чтобы опошлить идею свободы, подменить ее глупейшей неприглядностью, — и тем самым выставить еще один барьер на пути к свободе в сознании далеких от просвещенности рабов.
* * * Д. возмущается: как можно пройти мимо глубокой религиозности недочеловека Кириллова — показушного нигилиста, который ни на йоту не сомневается не только в существовании богов, но и в подлинности поповских сказок; для него Христос — "человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить" [198].
Так работает промывание мозгов: народное возмущение уже не в силах переступить вбитые в подсознание абсолюты, и можно убить барина — но ни в коем случае не посягнуть на богов, олицетворяющих барство как таковое. Но Д. идет дальше: ему надо вытравить в рабах последние блики самосознания, убедить их, что их рабская жизнь невозможна без господина, и потому покушение на власть — есть покушение на собственную жизнь [199]:
То есть, захотелось бунтовать — убейте себя. Чтобы не отвлекать лишний раз начальство от барских увеселений (или от бизнеса). Настолько людоедскую метафизику в цивилизованных странах не решаются пропагандировать даже отпетые апологеты буржуйской непогрешимости — это сугубо российская "народность". Нужно быть очень тупым, чтобы не заметить грубейшей лжи: христианский бог даже по библии вырезает население почем зря, без малейших колебаний применяя оружие массового уничтожения (сказка о потопе, Содом и Гоморра и т. д.). Именем божьим христиане всех мастей (включая православных) истребили миллионы язычников (и евреев); руками своих рабов — бог убивает отнюдь не себя. То же вытворяют и прочие боги; например, вся Бхагавадгита посвящена тому, как бог Кришна (которого считают индийским прототипом Христа) натравливает одних людей на других по приказу своего начальника, который решил, что людишек многовато развелось, и надо поубавить — так пусть сами вырезают друг друга. Показательно, что убедить в необходимости резни удается далеко не сразу; это важное историческое свидетельство, указание на то, что насаждение абсолютов (рождение классового общества, цивилизации) встречало упорное сопротивление доклассовых, первобытных людей.
* * * Ницше против библейских сказок о воскресении и царстве божием, поскольку его "сверхчеловек" (сбросивший цепи классового бытия) есть непрерывное становление — перетекание одной деятельности в другую, а что достигнуто — то мертво, и нельзя превращать эти трупы в абсолют. Как символ евангельского тупика, Ницше подчеркивает у Достоевского: "...то есть цель достигнута: к чему дети?" — и далее:
Воистину, беседуют два умных человека: Ницше и Достоевский... Рассуждения дурака о них — метафизический лепет... Надо читать оригиналы! Женщина как воплощение свободы от абсолютов, от закостенелой "вечности", от поповских "постулатов", — это великолепно! Остается добавить, что женщина — символ любви, — настоящей, человеческой, свободной. И вслед за Ницше:
А Д. бессовестно запугивает читателя:
Так все буржуи и говорят: без начальства — никакого порядка. Дескать, не пытайтесь ничем становиться — куда поставят, там и стойте. Но становление — вовсе не "бессмысленность и абсурдность" (как пыжится доказать г-н Д.), это и есть реальность, самообновление мира — в котором разумные существа постараются поучаствовать. В отличие от иллюзии "ставшего", законченного, данного раз и навсегда.
* * *
Каков концентрат маразма! Оказывается, существует абстрактная (сама по себе, без человека) "человеческая природа" — и зиждется она на невесть откуда взявшихся "онтологических основаниях"! А сознание людишек, дескать, только "отмечает" готовенькое — и никоим образом не участвует в его изготовлении.
Оголтелая пропаганда идеи о вечности классового мироустройства: не может толпа рабов существовать без мудрого пастыря — и смысл их бытия — ублажение господ; только для этого им позволяют "физически существовать". Чтобы сбросить цепи и жить своим разумом — ни-ни!
Вот и опять свели человека к животному. Стоят над стадом надсмотрщик с кнутом и охранник с автоматом: кто будет рыпаться — того побьют, или на мясо для барского стола... Разум — не имеет ничего общего с инстинктом самосохранения. По большому счету, ему все равно, какое тело его приютит — и ничего не стоит отказаться от одного и перетечь в другие. Когда люди творят — и любят — им плевать на подлую животность! Отдать жизнь за любовь — вовсе не жертва, не игра на публику, — это свобода, способ подлинно человеческого бытия. А вовсе не как у подлых тварей:
Снова и снова: "высший смысл" — указания свыше. Над человеком, против человека. Заметьте: абсолюты пытаются встроить в рабов как неотъемлемый компонент метаболизма, устройство органики. На фига же нам такая органика, если работает она не для нас, а на зажравшегося мерзавчика? На кой нам заботиться о "человеческом роде"? Да пусть он сгинет целиком — если тем самым получится расчистить дорогу к свободе, воплощенной как-нибудь иначе. Ну а про "деградацию" — это совсем по-барски: бунтующий холоп — негодный холоп. То есть, поездить на шее уже не получится...
* * * Живописуя, как слишком возомнившего о себе раба "заталкивают в самоубийство", Д. перечеркивает собственное глубокомыслие по поводу непозволительности убивать других — и логичности самоубийства. Если господа пьют нашу кровь — мы не обязаны это терпеть, и вполне можем прихлопнуть кровопийцу. Если спущенный сверху абсолют нас не устраивает — мы обходимся без него. Человек разумный — это и есть изменение мира в сторону большей разумности. Рабское "жизнелюбие" тех, кто "в бога верует пуще, чем поп", — надежная опора власть предержащих. Думая только о своей пошлой и подлой жизни — даже бунтующий раб не посягает на устои:
Рабская психология г-на Д. не в состоянии избавиться от деления на "высшее" и "низшее". Он, правда, скромно умалчивает, что "низшие стихии" используют в античеловеческих целях те же самые лица, кто насаждает нравственные абсолюты (которые подавляют человека — "возвышаются над его единичной волей"): либо вы "добровольно" подчиняетесь попу и закону — либо на вас натравят стаю живущих "по понятиям", воинствующих мещан — или прикормленных властью уголовников. Метафизически противопоставленные друг другу "абсолюты" и "своеволие", разумеется, не склеиваются в целое — и не получается ни абсолютного своеволия, ни своевольного абсолюта. Синтезом полюсов становится барский произвол (который, как и рабское служение, далек от человеческого, разумного действия). И если барин прикажет — раб убьет, и это не будет убийством, а будет лишь исполнением барской (божьей) воли — служением абсолюту. Принцип "не убий!" означает лишь одно: не иди против господ, не убивай их власти, не порти их имущества (например, другого раба).
Понятно? Людишки — только домашний скот, "наряду с любым другим живым существом". Живите, пока вам "даруют" жизнь — и радуйтесь, что пока не отправили на живодерню.
Человек — не зверушка. Не нужна ему жизнь без свободы, без любви. Тем более не нужны жизни тех, кто пытается отнять свободу, задушить любовь. Спущенный сверху ("высший") моральный принцип — можно сразу же спустить в унитаз. Вместе с прочей моралью. Подлая тактика античных софистов и современных "нейролингвистов" — подставить одно под другое и запереть собеседника в навязанной ему теме: вместо того, чтобы думать о переустройстве вселенной, — оболваненный раб мечется в клетке противоположностей: убить или не убить? Да какая разница! Нам все равно, быть или не быть; важно как быть — и как не быть. Нам важно — чему и как быть, и что для этого сделать. Не по указанию извне — а по велению сердца, по любви.
* * * Абсурдные теории Камю — далеки от лучезарности Ницше. Солнце заменили приглушенным рассеянным светом, революцию — мелкими реформами, театр истории — театром абсурда.
Снова трюк НЛП: молча предполагается, что абсолюты "гарантируют" боги — а вовсе не вооруженные до зубов мерзавцы, с миллиардами на банковских счетах. Согласитесь с таким "отрицанием" богов — и вы согласитесь с утверждением их могущества, станете винтиком машины промывания мозгов.
И снова: нам подсовывают буржуйскую мысль, что одно непременно должно возвышаться над другим, — и неравноценность автоматически становится правом одних ездить на шее у других. Оценивать — это рынок. Дележка имущества, конкуренция. Животное выживание — вместо человеческого, свободного труда, без оглядки на других, следуя голосу разума. Свободным людям незачем сравнивать одни действия с другими, и тем более расставлять их по (данному со стороны) ранжиру.
* * * Д. против Камю поскольку речь идет о несогласии с мнением начальства — но вполне солидарен там, где бунтовщиков объявляют опасными психопатами, маньяками, вытворяющими черт-те что "на почве душевно-духовного заболевания".
Намек понятен? Хотите "по ту сторону" — пожалуйте в дурдом, или в лагеря, за колючую проволоку. На той стороне бетонного забора — хоть вешайтесь. Понятно, что заборы строить можно и метафорически: окружить отщепенца стеной молчания и презрения, запретить труд и общение, лишить средств к существованию и доступа к общественным фондам. Если при этом еще и измываться денно и нощно, гадить под дверью и на голову, угрожать расправой, — трудно не сойти с ума. Таковы традиционные методы господ-абсолютистов.
* * * Подлый трус отказывается от бога только ради собственной выгоды (в чем бы она ни состояла). Для него отказ — не средство достижения разумной цели, а самореклама. Если оказывается, что никому до этой показухи дела нет — личная трагедия, катастрофа, конец всему; но молча отойти в сторону подлец не может — и в его распоряжении последний шанс всем нагадить: убить себя назло врагам (а в классовом обществе все друг другу враги). Вот это Достоевский и показывает, в характерной для него стилистике злой сатиры (к сожалению, иногда разбавленной антихудожественным резонерством). Но дурак Д. толкует про "педагогику" Достоевского:
В том-то и штука, что Кириллов не дорос до человека — он остался маленьким вредным насекомым, от исчезновения которого не изменится ровным счетом ничего. Для таких — все упирается в абсолюты; они сами представляют собой ходячий абсолют. И чем больше они будут убивать себя — тем легче дышать настоящим людям: одним абсолютом стало меньше. Камю здесь не намного умнее Д. Какая, к дьяволу, "последняя революция"? Нечто вроде христианского страшного суда? Суть в том, чтобы каждый шаг свободного человека становился революцией — чтобы никто не лез в "цари" и не бредил "славой". Воля свободного человека не имеет ничего общего ни с рабской покорностью — ни со своеволием: это просто разумность, соответствие движению мира в целом и стремлениям других людей, совместный труд не ради того, чтобы получить результат во что бы то ни стало, — а просто чтобы быть вместе, друг для друга, а не для барина.
* * * При имени Ницше у Д. перекашивается физиономия, выкатываются на уши глаза и лезет обильная пена изо рта, изрыгающего все новые проклятия по поводу
Заметьте: это не дурацкая "воля к власти" — это преодоление (прежде всего в себе самом) "человека" в кавычках во имя настоящего, разумного человека. Причем
Нельзя сделать человека разумным извне — ему придется вырастить разум в себе, преодолевая колоссальное давление классовой культуры и наследие подлой педагогики. Беда Ницше — в беспредельном одиночестве, от которого можно запросто сойти с ума. Оторванный от трудового народа, не привыкший руками месить материю мира, Ницше не находит людей — и кажется, что так и будет всегда, что революции — дело одиночек. Но если человек в состоянии сам искать пути к свободе — добиться свободы он может только вместе с другими, и преодолеть мерзость в себе невозможно без помощи тех, кто любит — и достоин любви.
* * *
Обыкновенный барин — не подчиняется никаким абсолютам: он предписывает их рабам — и покупает подлых лакеев, убеждающих мерзавца, что "обыкновенные смертные" бесконечно счастливы иметь над собой такого "нравственного" господина. А то, ведь, ненароком и совесть пробудится! — и от страха кусок в горло не пойдет. Для острастки холопам — персонажи Достоевского, гад на гаде; дескать, смотрите: попытались сбросить ярмо — и что? никакой радости... Так что ровно сопите в две дырки, и если ваша воля состоит в том, чтобы гнуть спины на господ, — никакого оскорбления этой воле, конечно же, нет, а одно лишь райское благолепие...
* * * Обыватель Достоевский может сколько угодно писать в дневнике, или вкладывать в уста персонажей, что
Художник Достоевский убедительно показывает, что любые апелляции к "высшей идее" — оправдание дикого насилия, зверства, — способ снять с себя ответственность за подлость и малодушие. Не заметить откровенно иронического отношения Достоевского к Алеше Карамазову может только абсолютно слепой. Он такой же Карамазов, как и все остальные, — и пафос романа как раз в том, чтобы во всей полноте представить разные грани карамазовщины. Нам прямо-таки кричат: не ведитесь на сладкие речи — не позволяйте затащить себя в болото абсолютов! Но если есть хоть малейшая возможность понять что-то неправильно — власть предержащие постараются, чтобы это неправильно поняли; если такой возможности совсем нет — есть г-н Д., который высосет из пальца тонны липкой грязи и вываляет в ней самые светлые мечты.
* * * Название раздела: "Возможна ли нравственность без абсолюта?" Абсолютная бредятина. Говорить о нравственности возможно лишь там, где человек сам выстраивает свое поведение; подчинять себя какому угодно "абсолюту" — это отказ от себя, и это заведомо безнравственно. Однако "низвержение морального абсолюта" — само по себе ничего не значит: если на его место встанет другой, столь же "моральный" абсолют — для человечества равным счетом ничего не изменится. Идеологи классового господства намеренно подсовывают людям зауженную постановку задачи, переводят разговор на сугубо этические рельсы. Но людям, по большому счету, все равно, из каких соображений они будут поступать, — людям надо менять мир, одухотворять его, освобождать от абсолютов. Этика годится в качестве отправной точки точно так же, как эстетика или логика; можно вообще не заморачиваться разграничениями — потому что все это грани одного и того же.
* * * Когда некто "приносит себя в жертву идее" — это не человек, а жертвенное животное. Идея возведена в ранг божества, в абсолют. Стоит ли овчинка выделки?
* * * Достоевский:
Казалось бы ясно: Достоевский не знает, и не берется судить, какая правда правдивее; он лишь показывает, что обожествленная правда — всего лишь идол, мишура. Жертвенность как "национальная черта поколения" — скорее, препятствие на пути к правде, синоним непроходимого невежества, забитости и униженности масс. Но Д. быстренько перевирает — сразу всех:
Сразу провозглашается черносотенная "народность" (самодержавие + православие) — которую запихивают в клетку абстрактно этической проблематики и нагло приписывают Достоевскому; после этого Камю приписывают идеи Ницше (до которых француз так и не дорос) — и на обоих науськивают сатрапов "морального абсолюта". Заметьте у Достоевского: "жертвовать собою и всем". Если есть одна жертва — будут и другие: боги ("абсолюты") ненасытны — они жаждут все новой и новой крови. Очень характерно в этом отношении построение фабулы Преступления и наказания: одно убийство ведет к другому. Только решительный отказ от подсказанных сверху решений, выход за грань добра и зла (и любых иных противопоставлений), — позволяет включить, наконец, разум и действовать по-человечески.
* * *
О любви Д. не знает вообще ничего. О нигилизме, впрочем, тоже. На всем протяжении книги, озаглавленной "Этика любви", — ни единого слова о сути любви, причем не только обыкновенной, человеческой — но и "абсолютной", божественной, мифической, фальшивой! Оно и понятно: согласно Д., любить можно только начальство — и сводится такая "любовь" к вылизыванию зада и бичеванию "нигилистов", посмевших подвергать сомнению божественность повелителя и его извечное (абсолютное) право "дарить" рабам жизнь — пока не взбредет в голову отнять "дарованное". Человеческая любовь (в отличие от закавыченной, холопской) существует там, где нет никаких размежеваний и взаимных отрицаний. Нет покорности, нет нигилизма. Есть общий труд — в котором каждый сам найдет себе место, и все это любят, и человек может любить всех.
* * *
Воистину, абсолютизм вреден для психики! Д. начинает заговариваться, упивается собственным бредом и впадает в белую горячку. Устранение морального абсолюта — это, видите ли, "утверждение нравственного миропорядка", — то есть насаждение другой морали, с ее собственными абсолютами. В переводе: передел собственности, захват рыночной ниши и устранение конкурентов; как в известном фильме: Скидавай сапоги — власть переменилась! У бытия нет никаких проблем. Проблемы только у людей — пока одни создают проблемы другим. Каким языком тут ни говори, на повестке дня вопрос об уничтожении классового общества — о переходе к обществу свободных людей, которым не нужно ничего "утверждать", которым не нужны боги, а разговоры о смерти — неуместная глупость в кругу разумных, то есть, заведомо бессмертных.
Речь вовсе не об "уравнивании"! Буржуазная идея равенства — лишь формально объявляет всех собственниками, рыночными игроками, — а делить собственность все равно будет господствующий класс. Людям подсовывают мысль, что ничего кроме рынка нет и быть не может — заставляют сталкиваться лбами в клетке (или как скорпионы в банке). Против такого НЛП — диалектика Гегеля: мы не просто "стираем" (замазываем) различия — мы их снимаем, то есть, изменяем мир таким образом, чтобы все эти различения стали неуместными, невозможными в иной постановке человеческой деятельности. Не заставляйте нас вечно вращаться в кругу искусственный противопоставлений! — дайте нам возможность искать единство. Сотни страниц Д. посвящает пропаганде своего абсолюта человека, мертвой абстракции, на которую жизнь и смерть навешивают извне; вдруг оказывается, что такое "возведение в абсолют самого человека" —"метафизическая предпосылка" клятого нигилизма, и Д. автоматически залетает в стан своих врагов! Ничего удивительного. Лакейская метафизика Д. целиком сводится к одному "этическому" вопросу: перед кем пресмыкаться? Если некий нигилист сумел отбить кусок пирога у прежних властей и сделался уважаемым господином — Д. морально готов переметнуться на его сторону, публично покаяться — и славить новое божество.
Метафизика г-на Д. достойно продолжает всю эту разрушительность и бесчеловечность. Обратить в ноль человеческое бытие — это нормально. Возмущение по поводу "неправильных" нигилистов вызвано другим: некоторые позволяют себе считать рабов людьми — а не абстракциями "человека"; тем самым рабу дозволено самому вершить судьбы мира, и собственную судьбу. А это посягательство на устои: даровать жизнь и отнимать жизнь — прерогатива начальства, и только такое, спущенное свыше бытие (согласно Д.) может быть исполнено "высшего смысла".
* * *
Надо быть очень тупым, чтобы усмотреть в этой формуле подталкивание к самоубийству. Действительно, разумному человеку животные тела не указ, — для него нет абсолютов (тем более физиологических). Базар за "жить или не жить" нас не интересует. Нам важнее делать свое дело, честно трудиться, творить, любить. Как в этом будут участвовать биологические тела (и будут ли участвовать вообще) — дело десятое. А у Достоевского — издевка на рабской казуистикой и наглядно о технологиях НЛП: дураку подсовывают дурацкую мысль под видом железной логики:
Вздор. Логический вывод — невозможность убийства как такового. Уничтожение какого-то биологического тела не может стать мотивом деятельности — это лишь средство, путь к собственно человеческим, разумным (а не животно-шкурным) целям. Человек — не организм; как совокупность общественных отношений, как личность, человек вечен. Чем ближе человечество к разумности — тем больше у нас возможностей влиять на свои воплощения, свободно менять их, — избавиться от (навязанного свыше) диктата органики.
* * *
Дожили. Г-н Д. наступает на горло собственному шлягеру и выступает против абсолюта справедливости — а следовательно, против всех без исключения абсолютов! Только недавно нам пели про "дарованную" начальством "высшую мораль" — как если бы ее абсолюты были чем-то "внечеловеческим", божьим установлением; тут вдруг разворот на все градусы — и он уже против царей и богов. Батюшки! — кто же тогда будет вершить справедливость?!
* * * Но запала хватило ненадолго — и Д. быстренько впадает в грех нейролингвистики:
Кто свободен — тому не нужно убивать (или не убивать). Он занимается своими делами, а дикие зверушки ему просто не интересны (разве что, в чисто научном плане, как раздел зверушкологии).
* * * У Достоевского гениальное (им самим не до конца осознанное) прозрение: нужно не копаться в морализаторских кишках, а добиваться "перемены земли и человека физически"! А когда "мир переменится" — тогда (как его часть) "и дела переменятся, и мысли, и все чувства". Один шаг до боевого марксизма: мы наш, мы новый мир построим... А Д. подменяет деятельное, физическое преобразование сугубо "моральным преображением человека" — это безнравственная ложь!
* * * Оказывается, стирание различения добра и зла — прямая дорожка к безумию... И в самом деле: марионетка так устроена, что ее надо дергать за ниточки — и тут нужен опытный кукловод, а иначе она кукла начнет дергаться хаотически — сойдет с ума, и может вовсе съехать с ниточек, рухнуть мертвой грудой. Так что извольте блюсти дистанцию, не переступать грань! Каждому свое, как любили писать гитлеровцы на вратах смерти. Царю — царское, барину — барское; рабу — рабское, дураку — дурацкое; попу — поповское, жиду — жидовское... Такая, вот, "этическая любовь". Взаимная метафизическая отчужденность, дурные (абсолютные) противоположности... Лично мне — никакой радости копаться в этой мерзкой писанине. Противно. Будто в дерьме вываляли. Но раз уж взялся — придется дюжить. Не из пристрастия к абсолютам, а ради любви. Человечеству на пути к свободе придется преодолеть людоедскую метафизику господ вроде Д. — пусть какую-то часть преодоления оно совершит через меня. Мой разум предлагает мне участие в общем труде — вместе с Кабе, Марксом, Ницше, Лениным, Ильенковым, — и всеми остальными, кто не пишет свободную от догм философию, а делает ее.
* * * Приписываемая Достоевскому сказка про "совесть в универсальном смысле" — очередная подтасовка и ложь. Совесть — понятие классовое, целиком вписанное в сферу господства и подчинения, когда одни устанавливают рамки другим — и вбивают в головы холопам подлый страх, так что малейшее неповиновение им сами кажется величайшим грехом, требующим раскаяния и искупления. Если я поступаю как разумный человек — это мое личное дело, и я ни перед кем не обязан держать отчет. Даже перед собой самим. Универсальность состоит в том, что мы нигде и ни в чем не упираемся ни в какие барьеры: вместо перегороженной тропинки ничто не мешает выбрать другую, в обход или поверх, через десятое измерение. Мои поступки никто не может оценивать или осуждать — они просто есть, и другие разумные люди ведут себя, сообразуясь с моим разумом, — как я сообразен им. А нам талдычат про "дурные поступки в общечеловеческом смысле этого слова"; как всегда, право говорить от лица человечества узурпировали власть предержащие — и они же клеймят "дурных", и поощряют верноподданнические чувства.
* * *
Первая фраза — давыдовский бред по поводу "магического круга ницшеански-экзистенциалистских посылок"; к Ницше она не имеет ни малейшего отношения — и полное отсутствие логической культуры с головой выдает защитника абсолютов. Вторая фраза — совершенно неоспоримое положение об отсутствии в мире сущностей самих по себе: нет существования — так просто не в чем (и некому) искать сущность.
* * *
Почему творчество только эстетическое — даже аллах не усечет. Нормальные люди творят во всех областях; именно поэтому они никогда не упрутся ни какие "абсолюты". А когда творчество окружают ореолом мистики и возводят в ранг "священного" — это просто дикость, недостойная даже первобытного разума.
Если нигилизм —"абсолютный нуль", то на фига г-н Д, тратит на него столько пены из перекошенного рта? С другой стороны, как мы знаем из элементарного курса физики, и абсолютный нуль — тоже не абсолют, и отрицательные температуры таки возможны (например, как инверсия населенностей в многоуровневой квантовой системе). Не говоря уже о том, что приближение к нулю — работа чрезвычайно полезная в теории и на практике; но работать руками Д. не умеет, и у него перед глазами только бестелесные "сущности". Хотя насчет попользоваться плодами чужого труда — это всегда пожалуйста... Для г-на Д. самая махровая реакция — лучше трезвого взгляда на мир, отбрасывающего религиозные извращения. Пусть лучше попы воют с амвонов (или колотят в бубны) — и правоверный монарх железной рукой обращает в ничто не только бунтовщиков, но и мечтателей, лишь воображающих себе хоть какую-нибудь свободу.
Это не сам Д. — но он к этой глупости всецело присоединяется. Типичный фокус НЛП: "тогда все позволено". А кто вообще присвоил себе право "позволять"? Свободному человеку в голову не придет спрашивать разрешения: он действует, опираясь на свой разум, — и не обязан ничему верить. Не подсовывайте нам ваши дурацкие крайности, "зло" и "добро"! — мы уже давно там, где все это неуместная пошлость. У нас не бывает ни "за", ни "против" — у нас есть дело, которое мы разумно делаем. А ваши абсолюты — не чистая случайность, а грязная ложь, оправдание зверских прихотей очередного барина.
* * *
Ха-ха! Скажите это душителям свободы, отправляющим на пытки и гибель тысячи и миллионы людей. Достоинство тут весьма гнусного толка. С другой стороны, как быть со всеми прочими абсолютами, коих Д, уже назаявлял воз и маленькую тележку? Раз абсолют только единственный — стало быть, и нет других абсолютов, и царь-батюшка нам не указ, и бога нет... Ай, как нехорошо получается! Нигилизм-с...
А Д. следует за только что раскритикованным — как слепой кутенок... И свое "раскаяние"
То есть, к заскорузлой метафизике самого дурного пошиба. Ничего разумного от такого засаживания разума в клетку ожидать не приходится — зато тюремщики всех мастей довольно потирают руки: можно продолжать измываться над людьми — сам Камю разрешил! Революционная диалектика Маркса — дурной тон; Гегель — просто козявка, и аргументация противников подлого Камю
Гениальность Гегеля как раз и состоит в том, что он не позволяет заточить разум в клетки метафизических "вопросов" — провозглашает свободу отбросить любую "постановку", если она противоречит практике преобразования мира (хотя бы только отраженного, только по идее). Даже дураку Д. это "очевидно" — но такое посягательство на абсолютизм он принять никак не может, и начинает вилять вокруг да около и бряцать пустыми словесами (цитатами из Камю):
Здорово живешь! Сразу после революции революционеры должны самоуничтожиться — а на пустой трон скоренько влезет новый тиран, и равновесие господства и подчинения тут же восстановится...
Ленин — редиска, что не застрелился в 1917-м. Не говоря уже о Фиделе Кастро и Хо Ши Мине. Впрочем, поборники "онтологической меры" стараются исправить несознательных, приговаривая всех скопом к высшей мере. Как расстреливали Парижскую коммуну — мы помним. Как топили паровозы коммунистами — тоже известно. Покушения и убийства — сплошной чередой. Смена власти ничего не меняет: немцы (в том числе христиане) уничтожали евреев; отстранили фашистов от власти — так евреи взялись столь же усердно вырезать арабов, персов и всех прочих.
* * *
Идеи не бывает без личности. Более того, личность как раз и есть совокупность (иерархия) своих идей — и это делает ее всеобщей, носителем культуры. По тому, что проповедует г-н Д., можно с полной уверенностью заключить: мерзавец и хам! Нам глубоко до лампочки, кого он ненавидит и на кого клевещет — хотя и это показатель. Но когда Д. заявляет, что за каждой революцией должен следовать откат, "приобретая характер национального покаяния", — это проповедь махровой реакции, оправдание насильников и палачей. И снова призыв к покорности, к недопустимости посягательства на устои:
Долой революции! Ждите, пока добрый барин доэволюционирует до очередной подачки — зажрется до такой степени, что кусок вывалится изо рта. А всяческим "товарищам" — в лучшем случае, реформизм, демократия в рамках дозволенного.
* * *
В переводе: нас будут убивать нелюди — а нам приказано: не убий! Причем не какое-нибудь — а "вековечное". Рабство во веки веков. Дескать, материться по поводу начальства — сколько угодно; реально послать начальника в ад — ни-ни! Рабы для господ — только фон, безликая масса; всякий начальник — "сверхчеловек" по отношению к подвластному ему быдлу, и делает что хочет — это даже убийством назвать нельзя: одна таблетка убивает миллионы микробов — но мы же не убиваем, мы лечимся! Потому что на первом месте — начальник, и его благополучие. Эх, вылечить бы человечество от господ!
* * * Разумеется, все возражения против религиозных догматов "бьют мимо цели, поскольку не касаются сути проблемы".
То есть, предлагается очередной абсолют — обязательный для всех распоряжением начальства (иногда оформленным как демократическая процедура). И "суть проблемы", согласно Д, состоит в насаждении "правильных" (православных) абсолютов — в отличие от забугорных "нигилистических" мер. Если у нас принято мерить на аршины — французская метрическая системы есть богомерзкая ересь, не говоря уже об англо-американских извращениях; и валюта в мире должна быть только одна — российский рубль.
Классика метафизики абсолютизма! Чтобы каждое явление мерить его собственной мерой — богохульство! Про теорию относительности Д. вообще ничего не слыхал (и слышать не желает). Разгоните ваш метр до субсветовых скоростей — он не только в 50 сантиметров выродится, а даже в миллимикроны! Это обывательскому умишку не по извилинам. Изменение мер в зависимости от предмета — совершенно обычное дело для вменяемых людей, не свихнувшихся на поповских абсолютах. Мощность лампочки мы измеряем ваттами, мощность водородной бомбы — мегатоннами; атомные масштабы удобно мерить ангстремами, космические — мегапарсеками; исторические эпохи длятся века — но вы никогда не скажете, сколько микросекунд отведено на средневековье или капитализм; прекрасное — схлопывается в мгновенье, ожидание — растягивается в вечность. Когда администратор американского проекта создания атомной бомбы подполковник Кеннет Николс потребовал от государственного казначейства от пяти до десяти тысяч тонн серебра для обмоток электромагнитов — ему ответили ледяным тоном: "Господин полковник, в Казначействе серебро меряют не тоннами, а тройскими унциями". А нам опять вдолдонивают абсолютные эталоны всего — и этот абсолютизм пропитывает классовое искусство, классовую науку — не говоря уже об этике. Так, например, лингвисты пытаются загнать звуки всех языков в единую таблицу МФА — вместо того, чтобы честно изучать собственную фонетическую систему каждого конкретного языка, безотносительно к предрассудкам европейских теоретиков (бессовестно объявляющих себя "международными"). Точно так же, всю математику пытаются вывести из априорных оснований, а физики упорно строят окончательные "теории всего".
Правильно. Потому что суть заповеди — вечное господство одних над другими, требование покорности и беспрекословного повиновения:
И совершенно без разницы, умрут от "послушливых стрел" тысячи людей — или десятки миллионов. В этом смысл "фиксированного" эталона. Заметьте: царю вовсе не обязательно убивать своими руками — ему достаточно властного взгляда. Христианнейший владыка чист перед "высшей" моралью — поскольку он и есть эта (безнравственная) мораль.
С логикой у Д. еще хуже, чем с нравственностью. Отрицание чего-либо вовсе не означает утверждения противоположного; кроме того, призывы убивать или не убивать — вовсе не противоположности: можно проповедовать принцип "убей!" — но никого за всю жизнь не убить; можно и наоборот: изображать из себя святошу — но жечь еретиков на каждой площади, пытать, рубить головы и колесовать. Иван Грозный был набожен, а перед смертью принял постриг — агнец невинный... Принцип "убей!" — государственная доктрина США и основа стратегии НАТО; это политика ядерного "сдерживания" — мировая диктатура международного капитала. Но человечество пока не до конца истребили — и конца мучениям не видно. Это для острастки рабам: страх — полезнее смерти. С другой стороны, поскольку господа считают людьми только себя, их собственная смерть кажется им концом человечества: позволь холопу убить барина — в мире не останется "благородного" сословия, рухнет цивилизация. Нам то что? Пускай рухнет. Останутся люди. Для которых не существует абстрактных противоположностей и абсолютов — и никакой промывщик мозгов не затащит их в одномерность дистанции между тем и этим.
То же самое о запрете убивать: никакого смысла. Кардинальное условие человеческого общежития — совместный труд; никакого отношения к религиозным догмам это не имеет. У людей (поскольку они вышли из животного состояния) нет врагов; есть просто люди, с которыми надо разумно выстраивать общение, безотносительно к их органическим телам. Нам важно сохранить дух, а не телеса. Лозунг "не убий!" господа (устами раболепствующих холуев) объявляют "условием возможности человеческой истории" — иначе "человеческая история кончилась бы". Для них человечество — это они сами, и больше никто! Знаменитая резолюция Николая I на пушкинской рукописи: "у бунтовщиков нет истории". Как обычно, все шишки Д. валит на главного сатану, Ницше. Дескать, это он звал убивать всех подряд, без разбора... Прихвостень убийц-сатрапов не гнушается самой мерзкой лжи.
* * *
Безнравственно — подсовывать людям абсолюты "добра" и "зла", вынуждать людей различать и выбирать. Имперская формула: разделяй и властвуй. Свободному человеку вообще нет дела до абстрактной морали — он ведет себя разумно, без оглядки на начальственные "ориентиры", следуя логике, эстетике и этике дела. Это свободный труд, а не коммерция или работа на хозяина. Только узурпация права (ложью, силой и угрозами) навязывать массам однобокие (классовые) воззрения открывает путь к "каппризно-инфантильному произволу" (орфография давыдовская!), от которого тысячи лет страдают угнетенные, униженные и оскорбленные.
* * * Д. приветствует "перерождение" Камю: исходя "из понятия жизни как высшего блага" (набор метафизических абстракций), недалекий француз мечется между придуманными противоположностями:
Логика учит нас, что из ложных посылок допустимо выводить все что угодно. Смысла в этом все равно ноль. Не обругать (оболгать) Ницше — Д., конечно же, не может... Но сползание от революционности к либерализму — характерная черта всей послевоенной эпохи, во всех странах. Логическое следствие — крушение социалистической системы и установление кровавой диктатуры кучки олигархов, перекраивающих карту на свое усмотрения и обрекающих на уничтожение миллионы "недоразвитых" во имя абсолютной "демократии". Метафизик Д. высокомерно поучает несмышленыша Камю, что, дескать "камюсовское понимание" жизни не позволяет
То ли дело черносотенный абсолютизм! — сразу все по местам: одним жизнь, другим ее отсутствие (животное прозябание); одним право "даровать" и отнимать — другим обязанность радоваться вечному рабству. Это не "формально", а по жизни, по классовой реальности.
Не признать гениальности Ницше не может даже заклятый враг! Разумеется, чтобы потом опошлить и извратить:
Только что Д. сообщил, что Ницше существует "по ту сторону права" — но тут же приписывает ему бредни о "праве жизни"... Тяжелый случай. То ли дело Камю: он ни "ни в коей мере не подвергает сомнению сам принцип" — а лишь играет в выданные заведующим детского сада бирюльки, расставляет приоритеты, переходя от "убийственных" противоположностей к (столь же абстрактной) противоположности "первичного" и "вторичного". Тут Д. в своей стихии — и может метафизичить до умопомрачения — если, конечно, допустить, что возможно помрачить никогда не имевшееся в наличии — или дойти до еще более глубокого мрака, чем разлитое на предшествующих 250 страницах.
* * *
По поводу отсутствия логических связей в опусе Д. — см. выше. Бревно в своем глазу — конечно же, ничто по сравнению с чужими соринками. Маразм в том, что оба подсовываемых читателю в качестве безусловной необходимости "права" — вздор и бессмыслица: "распоряжаться" — чисто классовое понятие, и речь идет лишь о расстановке классовых сил, когда одни узурпируют себе все "права" — а остальным достаются только "связи" (кандалы, клетки, абсолюты). Уберите классовый диктат, дайте людям свободу поступать так, как они считают разумным, — и нет больше никаких распоряжений, убийств и дурных противоположностей.
Вопрос только об идиотизме метафизических абсолютов, отрывающих друг от друга то, что по жизни никакими силами не разорвать. Формы общественного сознания отражают то, что реально существует в экономике, в быту, в культуре. Право — делает это одним способом; религия — другим; мораль — третьим. Искусство, наука и философия не только отражают, но и представляют в аналитических формах (не совпадающих с формами отражаемого). Наконец, эстетика, логика и этика (уровни и стороны синтетической рефлексии) — превращают отражения в идеи, ориентиры для деятельности, практики. Тут не надо ничего никуда переносить — это все об одном, взятом с разных сторон.
* * *
Критикуя Сартра, г-н Д., наконец-то, демонстрирует проблески сознания: пара извилин затесалась-таки в дуболомную "философию". Буржуазная пропаганда целиком стоит на признании животной жизни первичным правом рыночного человека: при рождении каждому выдают начальный капитал — рабочую силу, которой, дескать, все могут распорядиться на свое усмотрение и наварить на выгодных вложениях. Вот это и есть то, что на протяжении всей книги Д. называет "даром" жизни. Разумеется, никаких благодеяний: для власть предержащих это лишь вложение капитала, затраты на создание и поддержание рыночной инфраструктуры. Отсюда традиционная идея "долга" детей перед родителями — и долга "перед обществом"; долги надо отдавать, и человек в классовом обществе рождается не как личность — а как раб, вечный должник. Что его никто не спрашивает о его предпочтениях, — это же так естественно! То есть дико. Половинчатое решение Д. — оставить понятие собственности в сфере экономики и права, а мораль (о нравственности Д. ничего не знает) выделить в отдельное производство — и тогда уже возможно хоть как-то говорить о любви. Разумеется, мораль — такой же продукт товарного производства, как право и религия; но обывателю об этом знать не полагается — и "просветители" вроде Д. тщательно замазывают классовые корни морали, выводя ее из специально для этого придуманной "человеческой природы". Понятно, что в отрыве от своих деятельных корней, мораль становится метафизической абстракцией — и трепаться по ее поводу можно как угодно, ибо все рассуждения о моральных "абсолютах" равно бессмысленны. Но само допущение чего-то нерыночного — это грандиозный прорыв, огромная брешь в редутах защитников капитализма. Грех этим не воспользоваться — и наша признательность г-ну Д.
* * *
Голос не мальчика, а мужа. То, о чем так долго твердил Ницше, стало позицией его злейшего врага.
* * *
Предпоследняя страница — это таки про любовь. При всем уродстве фразеологии — есть главная идея: любовь — не разделяет людей, она соединяет их. В любви мы не отчуждены друг от друга как рыночные партнеры, мы не "один" и "другой" — мы вместе, мы одно. И в этом — единство человечества как сообщества разумных существ. Конечно, базар в голове — базарный язык. Никто в любви ничего не "отдает" и не "богатеет"; любящим незачем что-либо "утверждать"; здесь просто не существует "для себя" или "для кого-то". Все это "товарно-денежные ассоциации". Чтобы говорить о любви — нужна другая философия, поиск всеобщего единства, снятие любых различий. Для этого, конечно же, нужна свобода — преодоление ограниченности. Выхватить что-то одно — выстраивать деятельность вокруг случайного центра, — значит, потерять все остальное, лишиться первого определения духа — универсальности. Поэтому и любовь не замыкается на том, что в нас и между нами — в любви мы открываем друг другу весь мир. Как его материальную сторону, преобразование природы, — так и все уровни рефлексии — вместе, друг в друге.
* * * Тут Д. спохватывается и начинает наводить критику. Но не сам (поскольку разобраться в только что содеянном смелости нет), а руками подлых коллег. Например некоего Кисселя, согласно которому у Сартра
Если это так — Сартр, конечно, полный идиот: говорит об освобождении от рынка — но требует от людей присваивать друг друга, превращать в собственность (и тем самым человек исчезает, а остается всего лишь имущество).
Да, в классовом обществе любовь — это мечта. Развернуться во всю ширь в рыночных формах ей не дадут. Но мечта — это не так уж мало. Это начало освобождения, знамя революции. Треп о "развенчании" — буржуазная пропаганда: сначала устраивают мир так, чтобы разумное могло проявиться только в уродских формах — а потом злорадно восклицают: видите, какое уродство? — значит, и нет разума, нет свободы, нет любви. Но почему нужно обращать внимание лишь на внешность, не замечая за ней ростков будущего? В самых уродливых формах, любовь таки есть — и ее не убить, и буржуазное дерьмо к ней не пристает. Ну и, конечно же, сводить любовь к одним лишь "отношениям между мужчиной и женщиной" и превращать ее в "романтический идол" — традиция чисто буржуазная; любовь гораздо шире: она охватывает все сферы труда и человеческого (духовного) общения. К чести Д., он пытается робко возразить:
Но возражает не по существу: покорно соглашается говорить только об извращениях — замазывая ими свободную суть любви. Тогда, конечно, никакой духовности усмотреть нельзя — и остается рабски соглашаться с мнением другого маразматика (Филиппова):
Вот так. Вместо свободы — подведение под инстанции (абсолюты). Вместо нравственности "кантовская" мораль — которая сводится к диктатуре, к абстрактным предписаниям. Свободные люди не нуждаются ни в каких предписаниях, ни от каких инстанций. Они просто любят — а все остальное светится светом их любви, утрачивает вещность, оказывается по ту сторону "целей" и "средств".
* * * Книга г-на Д. подробно разбирает две стороны черносотенной триады: самодержавие и православие. Народ призывают возлюбить начальство — и вести себя по-божески. То есть, не бунтовать и не мечтать о человеческом существовании (которое навсегда останется прерогативой господ и попов). В качестве заключения, Д. посвящает 15 страниц третьему киту — народности (понимаемой как христианнейшее и верноподданническое отношение к себе и к миру — непостижимость русской души). Толстой и Достоевский — мужественно борются с превосходящими силами западных нигилистов, предводительствуемых антихристом Ницше и дураком Шопенгауэром. Им на подмогу скачет господин Д. на хромой лошадке деревянных абсолютов. Свои писания Д. называет уже не просто "нравственной философией" — но "русской нравственной философией", и ставит грандиозную задачу:
Сам Д. бесконечно далек от тех, кто работает руками (или головой), при этом добывая, воссоздавая и творя не абстракцию жизни, а добывая средства к существованию, воссоздавая испоганенное и разбазаренное барским произволом, творя предпосылки избавления от векового рабства, возможности приступить к строительству новой жизни, без богостроительства и абсолютизма.
Гнусная клевета! Борца с абсолютами Ницше объявляют куском дерьма, проповедником "абсолютов в чистом виде"! Диалектика Ницше — выставляют строителем метафизических фундаментов, призванных заморозить всякое развитие. Призывающего действовать Ницше — сводят к какому-то "идеальному измерению". Такой, изуродованный "Ницше" — просто двойник Д., отражение в очень кривом зеркале. Бороться с моралью надо. Всякой. Не разбирая по нациям и прочим полочкам. Но не ради порхания в абсолютной пустоте и служения чему-то (точнее: кому-то) "высшему" — надо разбивать всякие абсолюты, снимать различия, добиваться единства слова и дела. Немецкий фашизм прикрывался именем Ницше — опошленного и искаженного до неузнаваемости. Г-н Д. продолжает традиции Гитлера и Геббельса, убивая духовное наследие человечества, в зародыше истребляя свободомыслие, выкорчевывая ростки разума. Русский народ Д. пытается превратить в такое же покорное стадо, каким сделали (по видимости культурных) немцев идеи расового превосходства (точный эквивалент черносотенной "народности"). Гитлеровская Германия — прекрасная иллюстрация того, во что на практике превращается подлая "нравственная философия". Убогое философствование Достоевского, по счастью, не помешало его художественному чутью — и его книги громко протестуют против вульгарных мотивировок из комментариев и дневников.
Когда одних противопоставляю другим, натравливают на других, заставляют соревноваться — это безнравственно. Это оправдание войн, массовых убийств, — идеология порабощения одних народов другими, обрекающего миллионы людей на голод и нищету. Христианская догма "не убий" в этом контексте становится орудием убийства. Почему народы не могут жить не друг против друга — а вместе? Зачем вообще нужно отличать одну нацию от другой, городить границы? Это не воля народов — это антинародная суть классовой экономики, всеобщей дележки, всеобщего отчуждения. Д. ратует за "самопожертвование" (как любят брехать буржуазные пропагандисты: "в общечеловеческом смысле") — и твердит, что все вызванные "жертвами" бедствия — только из-за отдельных субчиков, использующих чье-то стремление "пострадать" в корыстных целях.
Но предложите Д. пожертвовать свою столичную квартиру мне (или какому-нибудь бомжу кавказской национальности) — думаете, он согласится? Интересно, какой метафизикой Д. мотивирует свой отказ? Этот пример прямо указывает, что любые апелляции к морали сводятся к одному: к дележке имущества, к узурпации правящим классом права доступа к культурному наследию человечества в целом. Когда Ленин пишет [31, 145], что "коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти", — он не прав: главное — вопрос о собственности. Если ваша революция не уничтожает собственность как таковую, а всего лишь перераспределяет ее, — это не революция, а государственный переворот, и тогда, действительно, меняется только власть. Народу все равно, кто въезжает в рай на его горбу. Он ждет момента, чтобы сбросить ярмо, стать действительно (действенно) свободным. Чтобы не держать ни перед кем ответа — а жить и устраивать жизнь по зову сердца, разумно. Не нужно нам спущенного сверху "миропорядка" — свой порядок мы будем наводить сами. Как разумные существа, а не подлые рабы:
Осудить только для того, чтобы был повод сокрушаться о собственном убожестве, — это мерзкое юродство. Нет запретов — нет и проступков. Нет богов — нет и грехов. Люди в мире для того, чтобы творить мир. Не воображаемый — а реальный, который можно ощутить и в котором можно жить по-человечески — свободно. Не замыкаться в кругу "родных и близких, их соседей и сослуживцев, их соотечественников и современников" — а быть в ответе за все человечество, и за разум вселенной, в прошлом, настоящем и будущем.
Вероятно, следовало бы вслед заметкам на полях сочинить какое-то резюме, эдакую позитивность — эскиз собственной позиции. Честно говоря — не хочется. Не стоит г-н Д. сколько-нибудь активного продолжения. Стать якобы вдохновителем гения (это я скромничаю!), отрицательным образом приобщиться к строительству бесклассового мира — слишком много чести! Говорить о свободе и о любви будем с другими — и в другом месте. Чтобы не путались под ногами дебильные абсолюты, и не вязнуть в трясине метафизики. А пока — довесить несколько возникших по разным поводам возражений — всем без разбора: и самому г-ну Д., и его литературным любимчикам, и писавшим про писателей. Не то, чтобы без этого нельзя было обойтись — но надо же куда-то пристроить старый хлам!
* * * Д. понимает любовь только как "нравственную" категорию — а нравственность (и этика) у него не идет дальше расхожей морали. Тем самым любовь противопоставлена другим областям духовного мира человека — и человеческой деятельности, творчеству. В результате любовь оказывается не выражением исторических тенденций, не направлением и механизмом развития, — а чем-то вроде общественного мнения, соответствия "общепринятым" стандартам. С другой стороны, лишенные любви стороны человеческой личности приобретают резко индивидуалистический характер — а человеческие поступки лишены общественного звучания и потому впадают в нелепый произвол, показуху. И то, и другое властям удобно использовать как рычаги давления — и внушать рабам, будто мотивы их деятельности идут "изнутри": безволие представляется волей.
* * * Д. понимает "бытие" только как бытие индивида, искусственно оторванного от человечества, противопоставленного другим людям, а значит, и разуму как атрибуту мира в целом, как объективности духа. Неудивительно, что и любовь, и благо, и нравственность, — становятся у него категориями, приложимыми только к индивиду — а значит, приобретают голую, абстрактную всеобщность — апеллируют к абсолюту, к "общечеловеческой природе". Напротив, марксизм начинает с общественного (и в частности классового) бытия — и лишь через такое отрицание человека как (биологического) индивида переходит к идее индивидуального бытия, вместо со всеми его атрибутами (включая нравственность). В классовом обществе, мы исходим из классовой нравственности и классовой этики — а от них переходим к индивидуальности и личным качествам. Тогда и любовь предстанет не как нечто, принадлежащее исключительно телу (индивиду), а потому и абстрактно внешнее для него, — но как изначально культурное, общественное явление, определяющее бытие личности независимо от возможных воплощений, и потому делающее человека свободным — не просто от чего-то или для чего-то, а во всеобщем, категориальном смысле — как один из аспектов единства мира. Можно сказать, что по-марксистски понятая любовь связывает индивидуальное и общественное в человеке, составляет ядро его личности — определяет ее как единство внешнего и внутреннего. Здесь мы приходим к психологической стороне вопроса — и ко всей бесконечности проявлений любви.
* * *
Д. никак не может понять, что бытие — это не только бытие материальное, но также и духовное бытие человека. И что сознание человека отражает как то, так и другое. И что человеческая воля имеет не только духовный, но и материальный аспект. К воспроизводству бытия Д. подходит по-толстовски узко — предполагая только простое воспроизводство; на самом же деле (и залогом тому служит вся человеческая история) это не только преемственность, но еще и развитие, расширенное воспроизводство.
* * * Горький:
Достоевский стал злым гением самому себе, разменивая художественное творчество на (псевдо)философские спекуляции. Публике читать лень; еще ленивее вчитываться. А тут готовые, трафаретные решения — все по полочкам. Голова у нас для красивой прически, а не для головной боли! Ницше пытался читать серьезно. Остальные — скользили по верхам, начиная знакомство с попсовых дайджестов.
* * * Горький, Лев Толстой:
Толстой — позер. Ему важно не осмыслить, а изречь, — чтобы народ хлопал глазами, ничего не понимая, — и принимал собственное невежество за толстовскую мудрость. Если присмотреться — ляпнул старец совершеннейшую чушь. Любовь не водка, чтобы ее испытывать на крепость. Нельзя "усилить" то, что по ту сторону силы и слабости. Пыжиться "усиливая" любовь — превращать ее в "любовь" в кавычках, балаган, показуху, акт веры. Попы, ведь, не верят в бога — он им ни к чему. И Толстой не верил — ему и без веры неплохо жилось. А которые пониже рангом (вроде плебея Горького) — тем без веры нельзя! Воображать, что любящий будет с кем-то сравнивать любимую — это рыночная подстава, базарная логика. Она есть — она несравненна. Слова "лучшая в мире" — знак отсутствия любви, попытка убедить себя, акт веры. Уберите забор, откройте клетку, — и полетели, от одной пошлой "любви" к другой. Утверждать, что в мире есть "высшее" и "низшее" — тоже рынок. Свободные люди действуют разумно, не раскладывая мир по вертикали, а используя все имеющееся по назначению. Соответственно, не нужно разумному человеку никакого "совершенства" — он производит общественный продукт, и достаточно, чтобы общество это устраивало; все остальное — вариации на тему, которые все равно уйдут в никуда после смены способа производства. Первобытные люди сотни тысяч лет оттачивали технологию создания каменных орудий — и достигали в этом великого совершенства... Ну и что? Пришел новый бог — и камни больше не нужны. Но мы все еще способны заметить (сделать) красоту, и это вовсе не ее собственное мистическое существование, а наша, человеческая способность — наряду с многими другими. Не верующий в христианского бога Горький так и не преодолел первобытной веры в "высшие" силы — читай: вера в непогрешимость начальства, которому, конечно же, видней...
* * * Вересаев, Горький, и многие другие — критически относятся к Достоевскому, но очень уважают Толстого (хоть и не во всем с ним согласны). Почему? Имущественный ценз!
* * * Достоевский и Толстой — противоположности, а значит, они одно и то же. Оба отрицают в человеке человеческое, но по-разному. Достоевский — равняет человека с богом (= сатаной), Толстой — сводит к телу, причисляет к животным. Первый привык смотреть снизу вверх — второй по жизни взирал на все барским оком. Достоевскому жизнь внушила (экономическую) ущербность — и все его герои рвутся из грязи в князи. Толстому жизнь и так хороша — а вдаваться в причины он не намерен. Ни тот, ни другой не видят собственно человеческого, не допускают и мысли о разумности — и пытаются разум чем-то заменить. Чем? Конечно же, верой. Нет у них в загашнике других идей.
* * * Сюсюкание Толстого и иже с ним насчет детей — от барства. Они-то сами себя не утруждают — а со стороны легко рассуждать о муках других. Дескать, женщина вознаграждена за все страдания — и не надо облегчать ее участь. Так и о другом: не нужно ничего улучшать — учитесь принимать жизнь как она есть, — и безмятежно ей радоваться. Это и есть состояние ребенка, который просто не знает еще, что можно что-то в жизни менять, и приспосабливается, как животное.
* * * Естественный порыв Наташи Ростовой (эпизод с ранеными при эвакуации из Москвы) — не делает ей чести, если это всего лишь выражение ее природных (то есть, животных) склонностей. Только осмысленные деяния могут иметь отношение к этике. Спонтанность — не лучшая черта в человеке. Иногда это к лучшему. Чаще — гадости. К естественности чаще всего призывают те, кто доволен жизнью и не ограничен в средствах или возможностях. Их не бьют на каждом шагу за безмозглые порывы — вот они и думают, что это хорошо, и всем надо так же. А кого бьют — думают иначе.
* * * Этика Толстого: не может быть нравственным поступок "из высших побуждений", ради кого-то или чего-то. Нравственно лишь то, что само по себе, для себя, изнутри, из всеобщности человека. Традиционно, это трактуют, по-толстовски, чисто физиологически. А важно, как общее становится личным, пропитывание человека историей.
* * * Проблема не в том, что люди начинают рефлексировать — и уходят от естественности. Это нужно и неизбежно, а оставаться в растительном состоянии на всю жизнь — уродство. Проблема в том, что идеи людей чаще всего не превращаются в убеждения, остаются пустой абстракцией. Возникает противоречие одних уровней духа другим — слепок уродливой общественной системы, превращение классовой вражды во внутреннюю неустроенность. В этом содержание книг Достоевского — и отчасти Толстого. Следующий уровень: убеждения формируются — но человеку не дано следовать им. По сути — убеждения недоразвиты. Здесь человек хотя бы осознает внутреннюю разорванность как жизненные провалы. Но тогда нет душевных метаний — все слишком ясно.
Примечания
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|




